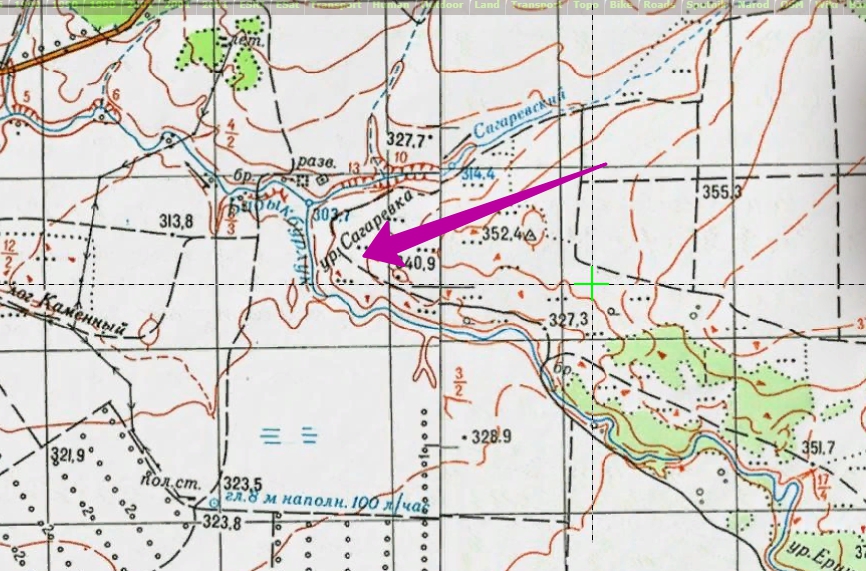- Вы здесь:
- Главная /
- Форум /
- Саумалколь и Айыртауский район /
- Населённые пункты /
- Константиновка /
- Константиновская волость
Константиновская волость
- makarovv65
-
 Автор темы
Автор темы
- Не в сети
- Завсегдатай
-

Меньше
Подробнее
- Сообщений: 175
- Спасибо получено: 20
5 года 1 мес. назад #10009
от makarovv65
makarovv65 ответил в теме Ответ на: Константиновская волость
Добрый вечер , Альберт! Вот так как-то лучше.....Не забывайте, Вы на форуме , а не в читальном зале....хотя в читальных залах люди тоже приветствуют друг друга...
Вот что по Меренцовым , жителям с Константиновка на 1922 год
Меренцов Сергей Ф. - 1896г.р., малограмотный, бедняк.
Жена - Прасковья Т. -1896г.р., неграмотная.
Дочь- Марья - 1917г.р.
Меренцов Федор - 1880г.р.,грамотный, середняк.
Жена- Матрена- 1885г.р.,неграм.,
Сын - Григорий - 1906г.р.,
Сын - Амось(?) -1909 г.р.,
Дочь- Раиса - 1920г.р.
Вот что по Меренцовым , жителям с Константиновка на 1922 год
Меренцов Сергей Ф. - 1896г.р., малограмотный, бедняк.
Жена - Прасковья Т. -1896г.р., неграмотная.
Дочь- Марья - 1917г.р.
Меренцов Федор - 1880г.р.,грамотный, середняк.
Жена- Матрена- 1885г.р.,неграм.,
Сын - Григорий - 1906г.р.,
Сын - Амось(?) -1909 г.р.,
Дочь- Раиса - 1920г.р.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
5 года 1 мес. назад #10010
от Albert
Albert ответил в теме Ответ на: Константиновская волость
Ну да, так лучше ! Тогда идем дальше... я так думаю вы Макаров, а меня зовут Наталья Меренцова...по неопытности зарегистрировалась как то не так ...
так вот, мои Меренцовы из Литвиновки и насколько я выясняла, пока с Константиновскими Меренцовыми у нас ничего общего не встречается...хотя фамилия редкая, в то время Литвиновка относилась к Константиновской волости, и я думала, что все-таки, что то общее должно быть ...думала возможно родство скрывалось, потому как дед был кулаком.
..нашла информацию про деда в интернете, вот только оттуда и узнала откуда он родом............................................................................................................
Меренцов Лука Максимович
Родился в 1892 г., Могилевская обл., Гомельский р-н, Кожановка с.;
русский; неграмотный;
Арестован 5 августа 1937 г. УНКВД по Северо-Казахстанской обл.
Приговорен: Решение тройки УНКВД Северо-Казахстанской обл.
5 сентября 1937 г., обв.: 58-10 УК РСФСР.
Приговор: ВМН
Реабилитирован 30 мая 1989
г. Кокшетауская облпрокуратура УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989 Источник:
Сведения ДКНБ РК по Акмолинской обл.
Годы жизни 1892 - 5.09.1937 гг.
После расстрела, осталась жена, Меренцова /Хондошко/ Евгения /Евга/Никитична и семеро малолетних детей...
в семейных архивах нашлось фото, подписано, что на фото два брата, брата звали Данил, один идет в Армию, второй из Армии ...но где и как дальше искать не знаю...о втором брате тоже никогда и никто не вспоминал и родственников со стороны деда небыло ...обычно же переселялись семьями ...примерно посчитала, то это 1916 г., если правильно ...
возможно что то встречалось по Литвиновке, тоже собираю информацию ... Фамилии родственников Погребник, Хондошко....
так вот, мои Меренцовы из Литвиновки и насколько я выясняла, пока с Константиновскими Меренцовыми у нас ничего общего не встречается...хотя фамилия редкая, в то время Литвиновка относилась к Константиновской волости, и я думала, что все-таки, что то общее должно быть ...думала возможно родство скрывалось, потому как дед был кулаком.
..нашла информацию про деда в интернете, вот только оттуда и узнала откуда он родом............................................................................................................
Меренцов Лука Максимович
Родился в 1892 г., Могилевская обл., Гомельский р-н, Кожановка с.;
русский; неграмотный;
Арестован 5 августа 1937 г. УНКВД по Северо-Казахстанской обл.
Приговорен: Решение тройки УНКВД Северо-Казахстанской обл.
5 сентября 1937 г., обв.: 58-10 УК РСФСР.
Приговор: ВМН
Реабилитирован 30 мая 1989
г. Кокшетауская облпрокуратура УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989 Источник:
Сведения ДКНБ РК по Акмолинской обл.
Годы жизни 1892 - 5.09.1937 гг.
После расстрела, осталась жена, Меренцова /Хондошко/ Евгения /Евга/Никитична и семеро малолетних детей...
в семейных архивах нашлось фото, подписано, что на фото два брата, брата звали Данил, один идет в Армию, второй из Армии ...но где и как дальше искать не знаю...о втором брате тоже никогда и никто не вспоминал и родственников со стороны деда небыло ...обычно же переселялись семьями ...примерно посчитала, то это 1916 г., если правильно ...
возможно что то встречалось по Литвиновке, тоже собираю информацию ... Фамилии родственников Погребник, Хондошко....
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
5 года 1 мес. назад #10011
от Albert
Albert ответил в теме Ответ на: Константиновская волость
...фото есть здесь ....в фотоальбоме Меренцовы ....
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- makarovv65
-
 Автор темы
Автор темы
- Не в сети
- Завсегдатай
-

Меньше
Подробнее
- Сообщений: 175
- Спасибо получено: 20
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #10012
от makarovv65
makarovv65 ответил в теме Константиновская волость
Последнее редактирование: 5 года 1 мес. назад пользователем makarovv65.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- makarovv65
-
 Автор темы
Автор темы
- Не в сети
- Завсегдатай
-

Меньше
Подробнее
- Сообщений: 175
- Спасибо получено: 20
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #10013
от makarovv65
makarovv65 ответил в теме Константиновская волость
Доброго времени!!! В урочище Сагоревское нашел фамильную печать Гончаренко Егор Герасимович, от старожилов узнал , действительно с такой фамилией проживала семья в с. Сагоревское, к сожалению большей информацией не располагаю... Возможно кто-то знает больше - напишите.Наверняка человек был не бедный...
Последнее редактирование: 5 года 1 мес. назад пользователем makarovv65.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- makarovv65
-
 Автор темы
Автор темы
- Не в сети
- Завсегдатай
-

Меньше
Подробнее
- Сообщений: 175
- Спасибо получено: 20
3 года 3 нед. назад #10246
от makarovv65
makarovv65 ответил в теме Воспоминания и рассказы Ляпина Василия, 2004 год
Длинными зимними вечерами, наработавшись в поле, на ферме или по дому, родители и бабушка часто сидели и подолгу вспоминали о прошлой жизни, о том, как жили их родители до переселения в эти места, как жили они сами. Воспоминания родителей перемежались рассказами о каких-нибудь забавных случаях, событиях, о людях, живших с ними бок о бок, о родственниках. А мы, дети, сидели и слушали и многое невольно запоминали. Нам было интересно слушать рассказы родителей, мы часто задавали вопросы, родители нам охотно на них отвечали, и все это глубоко отложилось в памяти.
Сейчас совсем другая жизнь, мы все время куда-то спешим, у нас нет времени поговорить с детьми, рассказать им о своей жизни, о своих предках, как когда-то рассказывали нам. Поэтому я решил написать историю своего рода, хронологию событий с именами, фамилиями, о некоторых персонажах нашей родни и просто интересных односельчанах. Если будет интересно, может быть, наши дети когда-нибудь прочтут мои нехитрые воспоминания. Я не претендую на грамотный литературный стиль, пишу, как могу, для себя. Боюсь, что мы с братом – последние из нашего рода, кто может еще что-то вспомнить и написать. А может быть, кому-нибудь из потомков интересно станет, кто же он по происхождению, кем были его предки, откуда он родом, в конце концов, кто он по национальности. Я также попробую описать село, где мы родились и жили, окружающую нас природу, интересных людей и события, связанные с ними, тем более, что то место, где мы родились, сейчас находится в другом государстве, и теперь мы там бываем всё реже и реже, а щемящее чувство воспоминаний и ностальгии по родным краям всё чаще и чаще посещает нас. Возможно, кто-нибудь из потомков возьмет перо и допишет о нас, как я сейчас пишу о своих предках.
ОТКУДА ПОШЕЛ НАШ РОД?
К большому сожалению, мы, русские, мало, что знаем о своих предках. Если дворянское сословие знало всё о своей родословной и гордилось своей родовитостью, то простые люди, крестьяне, ремесленники часто не помнили даже своих дедов, прадедов. Хуже того, если до революции народ мало передвигался по стране, так и жили целыми кланами в одном месте столетиями, и много деревень носило название по имени основателя этого населенного пункта, и в этом селе, например, Рыжково или Константиново, так там и жили почти все Рыжковы или Константиновы. А начиная с реформ Столыпина, а особенно после революции, народ пошел во все стороны необъятной России, покидая веками насиженные места.
Вот так и наш род в 1898 году покинул родные Рязанские места и переселился на территорию современного Северного Казахстана, тогда это была Омская губерния, Кокчетавский уезд. Говорят, первыми переселенцами были выходцы из Украины, Полтавской губернии, затем уже приехали из Рязанской и Пензенской губерний. Так и селились: выходцы из Полтавской губернии строили улицу по-над бурливой в то время речкой и до сих пор эту улицу называют Полтавой. «Куда пошел?» - «На Полтаву», другая улица – Рязанская, там жили выходцы из Рязанской и Пензенской губерний. За речкой, которая стала впоследствии называться Бурлучкой, на правом её берегу, тянулся огромный сосновый бор Чумбай, вот из этого леса и был построен практически весь поселок. По тем временам это был огромный населенный пункт. Две улицы тянулись по-над речкой почти на три километра. В середине поселка быстро построили церковь, церковно-приходскую школу и базарные ряды. Село назвали, как говорят, по имени одного из выходцев из Полтавской губернии Константина, так до сих пор село и называется Константиновка.
Крестьян наделили земельными паями, кто побогаче получил и землю (свои десятины) поближе к деревне, а кто победнее, подальше, иногда и за 15 верст. И селились так же, целыми родами, кланами, кто побогаче – в центре села, и на солнечной стороне, кто беднее – за солнцем, как тогда называли. И строили дома тоже так же, первые строили деревянные пятистенки под тесовой крышей, а другие – глинобитные, крытые соломой литушки.
Как рассказывала бабушка моя Лизавета, бедные часто были многосемейными и в семье одни девки, а на них, как известно, земли не давали. У кого же были сыновья, тем, конечно, было легче: они и земли получали больше, и рабочая сила была.
Наш прадед Тимофей Ильич привёз свою семью из Михайловского уезда Рязанской губернии. Семья была, как и у большинства, большая: трое сыновей – Севостьян, Изот – это мой дед, и младший Илья, и три дочери – Мария, Прасковья и Клавдия. Прадед Тимофей Ильич построил со своими сыновьями большой деревянный дом почти в центре села, получил земельный надел на себя и на сыновей и зажили они своим единоличным хозяйством. Подрастали сыновья. Старший, Севостьян, женился, его надо было отделять – сообща построили дом, появились дети, замуж повыходили дочери, жили все рядом. Род Ляпиных разрастался. Мой дед женился на бабушке Елизавете в 1912 году, а в 1914 году родился мой отец, Василий. Деду так же построили дом, отделили, но земельный надел был по-прежнему общим, так было легче. Крутой характером Тимофей Ильич четко и умело руководил всем семейством, справедливо распределяя доходы от натурального хозяйства. Постепенно обзавелись сельхозинвентарем, скотом, ели досыта, жили неплохо, батраков не нанимали, хватало своей рабочей силы.
Село строилось, расширялось, население увеличивалось и наконец-то люди, не имевшие на своей исторической родине достаточно земли и жившие впроголодь, досыта наелись, зажили.
Лес, расположенный на правом берегу Бурлучки, постепенно редел, и сосняк уже к тридцатым годам полностью исчез, остались чахлые березки, и этот «лес» Чумбай сегодня представляет собой гектаров 40 чахлых, доживающих свой век берёзок.
Теперь самое время рассказать о моих дедушке и бабушке. Мой дед, как я уже говорил, был средним сыном Тимофея Ильича и Прасковьи Филлиповны, высокий, русоволосый красавец, драчун и забияка, ни одна драка или стенка на стенку не обходились без участия Зотки, бабушка рассказывала, что частенько Изотка ходил с синяками или с распухшим носом. В церковно-приходской школе учился хорошо, был способным, часто решал задачки богатым недорослям за сало или гривенник, а потом, когда вырос и остепенился, даже пел в церковном хоре. Наша бабушка Елизавета Осиповна происходит из не очень богатого рода Самохиных, тоже переселенцев из Рязанской губернии. Прадед по бабушкиной линии Иван Самохин тоже имел большую семью, сыновей и дочерей. Бабушкина мама вышла замуж за Родина Осипа, к сожалению, отчества не помню, но знаю, что у них было четверо сыновей: Степан, Петр, Павел, Александр, а также две дочери – это моя бабушка Елизавета и Анна, моложе бабы Лизы на 13 лет. Люди жили, растили детей, каждое воскресенье ходили в церковь.
Церковь была общей для полтавцев и для рязанцев. Но и только, упаси Бог, чтобы кто-нибудь из парней с Полтавской покажется на Рязанской или наоборот, обязательно побьют. И женились так же. Было позором, если рязанец женится на полтавке. «У, за хохла вышла». Всеобщее презрение. И наоборот. А рязанцев называли косопузыми, это потому, что большинство рязанцев были плотниками и носили топор за поясом, отчего тот оттягивал пояс набок, так до сих пор и зовут «рязанцы косопузые».
Все было хорошо, за 15 лет обустроились, нарожали детей, обработали свои наделы, но тут грянула первая мировая война 1914 года, и многие молодые мужчины ушли на фронт. Из рода Ляпиных ушел Севостьян и мой дед, а из Родиных – старший брат бабы Лизы Степан. Не буду рассказывать историю войны, о ней много написано, только скажу, что Севостьян вернулся в 1916 году, Степан пропал без вести, а мой дед Изот Тимофеевич попал в плен к Австрийцам и только в 1920 году сбежал из плена и вернулся на Родину. А тут вовсю шла гражданская война, не обошла она и наши края. В 1921 году у Изота Тимофеевича и Елизаветы Осиповны родилась дочь Мария. Моего деда призвали снова на службу в войска Колчака, а брат Севостьян стал помогать устанавливать советскую власть в своей деревне. В то время во многих семьях так было: брат против брата, сын против отца.
После поражения белой армии остатки Колчаковской армии разбежались кто куда, а мой дед вернулся в родное село Константиновку, но прожил он там недолго, потому что тут уже начали преследовать всех, кто воевал против Красной Армии, и дед мой вынужден был бежать на юг, в сторону Семиречья, это современная Алматинская область, в то время город Верный. Дед скитался, убегая от преследования органов ЧК, а баба Лиза воспитывала одна двоих детей. Сколько она пережила, один господь бог знает, и голод, и холод, и непосильный труд для маленькой, хрупкой женщины.
Несмотря на то, что прадед Тимофей Ильич числился в середняках, его семью раскулачили и выслали в Семиречье. В холодный ноябрьский день подводы с кое-каким скарбом двинулись на юг. Ехали долго, в пути от холода и недоедания многие умерли, и где их безвестные могилы, никто уже никогда не узнает. Так и наш прадед Тимофей Ильич умер где-то по дороге от простуды, похоронили его зимой кое-как, на скорую руку прямо в степи, недалеко от дороги, а обоз двинулся дальше, оставляя за собой печальные, безвестные холмики.
Выезжало раскулаченных человек 60, а прибыла в Семиречье едва ли половина из них. Особенно много умерло по дороге стариков и детей малых. А кто ждал переселенцев там, куда они ехали? Моим предкам еще повезло: они прибыли на место нового поселения в теплое время года, в начале апреля, местные жители уже отсеялись, а переселенцы не имели даже крыши над головой. И снова, как 30 лет назад, начали они устраиваться. А как? Там, в Кокчетавском уезде, кругом был лес, а тут, кроме верблюжьей колючки, никакого деревца. Вот и стали «строить» - рыть в земле яму примерно до пояса, а из пластов и вырытой земли складывать стены. А крышу делали из тальника, росшего по берегам речушек, обмазывали глиной, полы тоже были глиняные, мазаные, вместе с коровьим пометом.
Представить себе трудно, как народ выживал на голом месте. Даже семена, привезенные с собой, в условиях полупустынного, жаркого климата годились только на еду. Скот тоже не смог приспособиться и почти весь вымер. Только человек в таких нечеловеческих условиях выживал, да ещё и дети рождались. Надо отметить, что некоторые постройки служили жильем до восьмидесятых годов прошлого столетия.
Почему я так подробно описываю события тех давних лет? Потому что, хотя я сам не был участником тех событий, но много слышал об этом от бабушки, от родителей, пусть знают об этом и наши дети, дабы никогда больше такое не повторилось. Счастье ещё в том, что местное население, казахи, не относились враждебно к переселенцам, а наоборот, сами испытывая крайнюю нужду, помогали им всем, чем могли.
Вот так одна ветвь нашего рода оказалась в Семиречье. А брат моего деда, Севосьтьян Тимофеевич, со своей семьей остался в Константиновке, там же осталась с двумя детьми на руках моя бабушка. Старшие сестры моего деда повыходили замуж. Прасковья Тимофеевна – за Солодягина Ивана, Мария Тимофеевна – за Климкина Антона, младшая Клавдия – за Махновцева из села Куспек. Впоследствии он изменил свою фамилию, стал Коноваловым и уехал в Киргизию, там у них родились два сына, Михаил и Иван, о них я больше почти ничего не знаю.
В1929 году коллективизация дошла и до Константиновки. У людей забрали скот, инвентарь, семена. К власти, как известно, пришли бывшие голодранцы, бездельники и лодыри, и если они не умели дать ума своему маленькому хозяйству, то куда уж им было до этого, обобществленного? Почти весь скот за зиму пал от голода и холода, инвентарь растащили, семена съели, и, как и по всей стране, начался голодный мор. Сеять было нечего и нечем, люди ходили по деревням, просили кусок хлеба, дети и старики умирали от голода. Даже несмотря на то, что Севостьян Тимофеевич был в то время членом правления колхоза «Красный Полевод», его жена тоже ходила по деревням, побиралась, чтобы прокормить пятерых детей. И так однажды зимой еë нашли у окраины некогда зажиточного украинского села Раисовки, замерзшей в сугробе. Бабушка и мама рассказывали, как люди шли по домам, просили хоть крошку хлеба: «Подайте Христа ради». А что было подавать? У самих дети пухли от голода. Приходилось есть даже павших лошадей, семена сорной травы лебеды, сусликов. Люди ходили хмурые, с голодным, злым блеском в глазах, а погост за селом всё разрастался и разрастался, хоронили кое-как, особенно зимой, почти на поверхности. Не стоит дальше распространяться, об этом так же много написано, снято разных фильмов, а тем, кто довел народ до такого состояния, гореть вечно в аду.
Голод продолжался до 1933 года, а потом постепенно жизнь стала налаживаться: заработали колхозы и, хотя по-прежнему народ жил впроголодь, много работал и почти задаром, все же стало немного полегче. Подрастали дети. У Севостьяна Тимофеевича росли сыновья Иван и Николай – красавцы, балагуры, и три дочери – Варвара, Таисия и Екатерина. У Климкиных три сына: Федор Антонович, Василий Антонович и Павел Антонович. Подрастал и мой отец, Василий Изотович, и сестра его Мария. Младший сын прадеда Тимофея Ильича женился там, в Семиречье, и у него родилось тоже два сына, но, к сожалению, о них мне практически ничего неизвестно. Как я уже говорил, дед Изот исчез в 1922 году из-за преследования органов Советской власти и только в 1956 году объявился в Талдыкурганской области, но уже с новой семьей, которая вынуждена была возвратиться из Китая, из города Харбина, из-за известных событий того времени. Но это уже другая история, и о ней надо рассказывать отдельно.
И только народ стал понемногу подниматься на ноги, началась Великая Отечественная война. Почти всех мужчин забрали на фронт. Так и сыновья Севостьяна Тимофеевича с войны не вернулись, погибли. Из трех братьев нашей бабушки Елизаветы, не вернулся Павел, Панька, как его звали друзья и родственники. У Павла Осиповича с Варварой Севостьяновной родилось трое детей: Степан, Александр и Мария. К сожалению, их уже никого в живых нет. Брат бабушки Петр попал в автокатастрофу в 1962 году, погиб. У них с Мариной Ивановной родилось пятеро детей: один сын, Василий, умер в 50 лет, и четыре дочери. Из пятерых детей в живых сейчас только две дочери, Вера и Зоя. Младший брат Александр после войны работал в органах НКВД, умер в 1951 году. Две дочери, Раиса и Валентина, воспитывались в Семипалатинском детском доме, дальнейшая судьба их неизвестна. Сестра Анна вышла замуж за Рекутина Василия, они долго жили в Семипалатинской области, у них было трое детей: два сына, Василий и Николай, и дочь Любовь. Василий умер в 1981 году в возрасте 52 лет. Климкины, Василий Антонович и Федор Антонович, воевали. Федор Антонович вернулся по ранению в 1942 году, работал в родном колхозе бригадиром, ну и, наверное, по своей неопытности или безграмотности, сказал, что-то не то. Его посадили на 15 лет, и вернулся он из лагеря только в 1956 году, отсидев 13 лет. Его сын Николай умер в возрасте 54 лет. Василий Антонович вернулся с фронта живым и невредимым, вырастил шестерых детей, умер в возрасте 64 лет.
Ушли на фронт и два брата моей мамы, Василий и Константин, оба не вернулись. Мой отец, Василий Изотович, был оставлен по брони в тылу как высококлассный специалист. Он всю жизнь комплексовал по этому поводу, жалел о том, что не попал на фронт. Мои родители поженились в 1936 году. В 1937 родился первый сын Алексей, но он умер в младенческом возрасте, затем рождались дети и умирали почему-то в раннем возрасте, и так получилось, что из 11 детей, Всевышний подарил жизнь нам троим: мне, брату Николаю и сестре Зое.
Наши родители и бабушка уже давно умерли. Баба Лиза умерла на восьмидесятом году жизни в 1972 году, не имея ни одной седой волосинки на голове, и до конца жизни сохранила прекрасное зрение, вдевала без очков нитку в иголку. По сути своей она была очень добрым и мудрым человеком, вечно за всех переживала и в то же время была очень требовательной и щепетильной. И еще баба Лиза была глубоко верующей, набожной, но никогда никому своих убеждений не навязывала, а просто сама верила, и всё. Бабушка нам в детстве очень много рассказывала о той жизни, о людях, о своей семье, и главное, в ее рассказах все почему-то были добрыми и хорошими. Длинными зимними вечерами рассказывала сказки, разные интересные истории, а мы сидели и слушали затаив дыхание. Я обязательно о своей бабушке напишу.
Мама умерла в 1984 году, наверное, она могла бы и дольше прожить, но её добила авария, в которую она попала по вине пьяного водителя, её кое-как сшили по кусочкам местные доктора, но от последствий аварии она так до конца жизни и не оправилась. Она, как и бабушка, тоже много рассказывала интересного, старалась в нас воспитать трудолюбие и порядочность.
Отец пережил маму ровно на шесть лет. После смерти мамы он жил в нашей семье, его очень любили наши дети, да и сам он был открытым, общительным человеком, его знали все соседи в округе и продавщицы в магазинах. Когда он приходил в магазин, его пропускали без очереди, но он пользовался этим очень редко. Умер отец осенью 1990 года, три дня полежал в коме и скончался от инсульта.
Сестра отца, Мария, умерла в 1989 году на шестьдесят восьмом году жизни, остался у нее непутевый сын Сергей, ему только сорок лет, но он успел побывать в местах не столь отдаленных, жениться и развестись, растет у него дочь, ей уже пятнадцать лет. А Сергей болтается неизвестно где. Так, наверное, и сгинет, как его отец.
У нас с Любашей трое детей – две дочери и сын, уже четыре внучки, старшей четырнадцать лет, а самой маленькой полгода. Все дети получили высшее образование, как и мы, живут в городе Челябинске. У брата Николая двое детей - дочь и сын, один внук. У сестры Зои тоже двое взрослых детей – дочь и сын, живут они в Казахстане, мы все часто общаемся. Когда-нибудь о своей семье я обязательно напишу.
СЕЛО КОНСТАНТИНОВКА
Село Константиновка расположено в живописном месте Кокчетавской области, Арыкбалыкского района, на левом берегу некогда бурливой, глубокой речки Бурлук, Бурлучки, как её ещё называют. Эта речка, тихая, спокойная летом, весной, в половодье, так разливалась, что сметала все на своем пути, но недели через две успокаивалась и мирно дремала своими омутами и перекатами. По правому берегу тянулся некогда дремучий сосновый лес, он уходил от берега на север, поднимаясь по склону небольшого увала, и постепенно переходил в смешанный березово-осиновый лес, тянувшийся на много верст на северо-запад. Когда пришли переселенцы, по-видимому, мало кто контролировал вырубку леса, потому что буквально за 30 лет от леса остались только чахлые березки, доживающие свой век под копытами многочисленного скота. Лес назывался Чумбай. О том, что это был дремучий лес, говорят срубы домов, сохранившихся до наших дней, толщина бревен в два обхвата. Из этого леса построено все село: церковь, школа, амбары, склады. Они и сейчас стоят как ни в чем не бывало.
Речка берет свое начало в 60-70 километрах по руслу в ключах между маленькими селами Цуриковка и Верхний Бурлук. Я однажды был у истоков Бурлучки. Это довольно заболоченное место, раньше вокруг был лес, а сейчас распаханные поля. Раньше это было гиблое место, а сегодня это вытоптанное скотом поле с кое-где в низинах растущим камышом и осокой. Когда река обмелела, говорили, что это казахи забили кошмами все родники, и поэтому воды не стало. Это бред: разве можно закрыть все родники? Тем более река течет половину своего пути в лесу и в скалах в урочище Уварово. Все гораздо прозаичнее: это результат хозяйственной деятельности. Леса интенсивно вырубались, родники и исток реки постепенно вытаптывались скотом, земля вокруг распахана во время освоения целины, верхний слой десятилетиями смывается в реку, она зарастает болотной травой и постепенно от некогда грозной, бурливой реки остался ручей, да сохранились еще кое-где омуты в лесной части русла, да и они уже не те.
В центре села стояла красивая церковь, по праздникам народ собирался, молились богу, общались, обсуждали насущные вопросы, но с приходом советской власти крест и колокол с церкви сбросили. Из бревен в райцентре построили школу, а на том месте до начала 50-х годов был пустырь, потом построили почту, но теперь нет и почты, только стареющие тополя остались, да кучка мусора и глины. Затем, уже при советской власти, построили школу деревянную и клуб. Эту школу окончило не одно поколение ребятишек, в том числе и мы с братом и сестрой. Теперь нет на этом месте ни школы, ни клуба нет; чахнет некогда красивый, ухоженный школьный сад, а в нем памятник павшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн односельчанам.
А на правом берегу речки стояла пармельница, по тем временам огромное, высотное здание, где-то в три этажа, оно сохранилось до сих пор, но вросло в землю и теперь не кажется таким высоким. На эту мельницу съезжался народ со всей округи, одна мельница была на сотни верст. Для того, чтобы смолоть зерно на муку, люди неделями жили кто где: кто у знакомых или родственников, а кто и рядом с лошадью там же, возле мельницы, чтобы не упустить очередь.
С западной стороны села, в самом его конце в 30-е годы построили МТС (машинно-тракторную станцию), там ремонтировалась техника, сельхозинвентарь. Здание МТС вместе со станками сохранилось до сих пор и продолжает работать. С южной стороны был выгон для скота, а дальше сельский погост. Теперь на месте выгона стоит хлебоприёмное предприятие, мехток, строительный участок, построена новая улица.
А ещё я помню хорошо тополиный сад. Его до сих пор называют Берестнев сад. Могучие тополя в три обхвата вот уже более ста лет укрывают своей тенью влюбленных или сильно жаждущих выпить, благо магазин рядом. В детстве в этом саду мы часто играли, тем более рядом был водоем, в нем мы бултыхались в мутной воде целыми днями.
В пяти километрах от села на северо-восток раскинулся сосновый бор с названием Тургай. Это когда-то была летняя резиденция Омского генерал-губернатора Пелымского. К поместью ведет дорога, она так и называется - «Генеральская». Слава богу, лес до сих пор сохранился и кормит жителей села дарами природы. А вот от барской усадьбы уже ничего, кроме следов не осталось, но я еще помню старую усадьбу, когда до середины 50-х годов там работал лесхоз. В лесу было две поляны, первая и вторая. На территории первой поляны стояли господские дома, рос красивый, ухоженный сад с беседками и дорожками, обнесенный каменным забором, а между первой и второй полянами заросший по берегам плакучими ивами пруд. Этот пруд теперь уже превратился в заросшую сорной травой канаву, столетние ивы доживают свой век. Дальше, за прудом, на второй поляне располагалась челядь: прислуга, садовники, кузнецы, конюхи, располагались хозяйственные постройки. Когда наступала горячая пора, привлекали население окрестных сел, они заготавливали для господского двора грибы, ягоды, корма для лошадей, дрова.
Рядом со второй поляной также рос прекрасный сад, а дальше еще один пруд. Каменный забор растащили на строительство, сады заросли, на месте построек разрослась непроходимая крапива, от прудов остались только следы.
Когда-то большое богатое село Константиновка постепенно стареет, ветшает, покосились старые дома, новые с начала 90-х годов строить перестали – практически не для кого. С развалом Союза, в первую очередь молодежь стала родное село покидать. Кто куда, в основном в Россию. Остались старики да те, кому ехать некуда. Крупный, зажиточный совхоз превратился в хиреющее, доживающее свой век, никому ненужное предприятие с пьющим, деградирующим населением. Каждый приезд на Родину оставляет душевную травму, но приезжать надо: на сельском погосте лежат все наши родственники, родители, братья, сестры, даже друзья, одноклассники. А живых родственников в селе уже никого не осталось. И я боюсь, что пройдет еще лет пять-десять, и некому будет принести и положить цветы на родительский день на могилки самых близких мне людей.
НАШ ДОМ
Наш дом стоит на солнечной стороне, почти в центре села, но это уже не тот дом, что когда-то строили переселенцы, на этом месте он уже третий.
Первый дом стоял почти на том же месте, чуть левее или правее. Было такое поверье, что ни в коем случае нельзя строить жильё на том месте, где стояло прежнее строение, иначе будут болеть и умирать дети, не будет вестись скот, то есть того, кто нарушил такое правило, ждут неудачи во всем. Так оно часто и случалось: даже я знаю таких людей, которые проигнорировали предупреждение стариков и потом долго расплачивались за свое неверие, до тех пор, пока не переносили жильë на новое место. Поэтому каждый раз, когда родители перестраивали дом, они его относили на один-два метра влево или вправо.
Первый, ещё дедовский, дом я, конечно, не помню, хотя мне рассказывали, как однажды в воскресный день обвалился потолок в горнице и меня, тогда ещё полугодовалого младенца, чуть не привалило обвалившимися балками и глиной. Спас большой сундук, возле которого меня уложили спать на полу. Балки упали концами на край сундука, и я оказался как в балагане. Родители еле выгребли меня, чуть не задохнувшегося от пыли, из-под завала.
Второй, деревянный пятистенок, крытый, как и большинство домов в деревне, соломой, пропитанной жидкой глиной, помню хорошо. Летом, как только пойдëт сильный дождь, крыша, как решето, пропускала воду, не успевали подставлять тазики, чашки, горшки. Да и холодные в то время были дома. Бывает, мама моет пол, и пока струйка воды дотечет до порога, она уже замерзает. Этот дом простоял до 1957 года.
Потом родители надумали строить новый. Мы были ещё подростками, но хорошо помню, как отец с матерью до начала строительства заготавливали лес, стройматериалы. Тогда отец и надорвался: лес заготавливали и грузили вручную, а мы с братом были еще маленькими, чтобы хоть как-то помочь. Готовились к строительству года три, а тогда как раз в селе наступил строительный бум.
В 1954 году начали осваивать целину, понаехало народу со всех концов страны, в основном молодежь. За короткие сроки отстроили хлебоприемный пункт, новый мехток, склады, строительный участок, одновременно застраивались целые кварталы, а тут еще приехали в 1956 году переселенцы из Белоруссии, им дома строил колхоз. Это были самые интересные годы в развитии села. Вечером в разных концах деревни слышалась музыка, играла гармошка или баян, распевались песни. Колхоз понастроил новые фермы, все были при деле. Наши родители буквально за лето построили новый дом – деревянный пятистенок под шиферной крышей, а потом, года через три, пристроили веранду, а уже в конце шестидесятых пристроили еще две комнаты, но это уже с моим участием.
Много хорошего с собой привезли первоцелинники, заработал во всю клуб, спортивные баталии каждый вечер собирали сотни болельщиков. Играли в основном в волейбол, футбол. Стали озеленять село, заложили фруктовый сад. Стала повышаться культура земледелия, ушли в прошлое урожаи в 5-6 центнеров с гектара, целина, наконец, накормила страну хлебом. Вообще тогда в стране был невероятный энтузиазм, романтика.
В нашем доме жили мы дружно, каждый знал своё дело, очень трудолюбивыми были родители, а отец, хоть иногда и выпивал, но всегда знал меру. Постепенно мы вырастали, а родители старели. Вот и я, отслужив три года в армии, женился и уехал в другие края, брат тоже после армии женился и уехал, а сестра вышла замуж, живет в столице Казахстана. В общем, в доме остались только родители да баба Лиза. Потом бабушка умерла, мама тоже, отца мы забрали жить в свою семью, дом продали Харчикову Павлу, он купил его уже после смерти жены, жил одиноко, за домом практически не смотрел. За последнее время дом слегка покосился, осел, потускнела краска на фронтонах и наличниках, территория заросла сорняком, а большие тополя в палисаднике, которые когда-то мы посадили, почему-то стали пропадать. И вообще, я уже давно заметил, что многие деревья, особенно тополя, как только хозяева покидают усадьбу, постепенно засыхают и погибают. Теперь вот умер последний обитатель бывшего нашего дома, и он сиротливо стоит на перекрестке дорог, как человек, доживающий свои дни.
Был я недавно в своем родном селе, остановился возле родительского дома, и стало очень тоскливо на душе. Боюсь, что пройдет немного времени, и на месте нашего дома останется кучка строительного мусора, прах. Их, таких кучек много уже на нашей улице. Идешь, смотришь и вспоминаешь: вот тут жили Харчиковы, тут – Родины, тут – Алёшкины, Самохины... Старики умерли, а молодежь после развала большой страны разъехалась кто куда, и в большом, некогда красивом селе, всё больше становится бесхозных домов с пустыми глазницами вместо окон.
Дома так же, как люди, рождаются, стоят, радуя глаз, потом стареют, дряхлеют и умирают.
ШКОЛА
Наша школа стояла в центре села, вокруг был разбит школьный сад с центральной аллеей и цветниками по обеим её сторонам. В школьном саду в основном росли тополя и клены, а также росла одна-единственная сосна, она была какая-то чахлая, невысокая, с кроной на самой верхушке. Кто её посадил и когда, вряд ли кто теперь знает.
Мы любили свою старенькую деревянную школу. В ней проучилось не одно поколение сельских ребятишек, там проходили все школьные вечера. Весной и осенью мы ухаживали за школьным садом, перекапывали землю, сажали молодые деревца, цветы, отдыхали под сенью тополей и клёнов, всё своё время проводили на территории школы. Я не хочу сказать, что все мы были примерными учениками, лентяи и бездельники были еще те, но школу свою любили точно. А где еще было собираться? Телевизоров тогда не было, дискотек тоже, кино в клубе гнали только по вечерам, на танцы нас, школьников, не пускали, вот мы и проводили всё свободное время в школе.
Учителя тогда тоже любили школу, свою работу, любили детей, отдавали всё, что могли, нам, ребятишкам, а мы боготворили своих учителей, и многие, особенно девочки, мечтали стать учителями. Так оно и происходило: после школы многие поступали в пединституты и педучилища и становились учителями.
В нашу школу приехало много молодых учителей, да откуда! Из Ленинграда, Москвы, Киева, Днепропетровска и других городов. А какие это были учителя! Они приехали по доброй воле, за романтикой, и действительно они все свои знания отдавали нам, сельским ребятишкам. Многие из них поженились, повыходили замуж и навсегда остались в нашей деревне. Да и деревней-то уже трудно назвать такой большой населенный пункт.
Среди учителей, приехавших на целину, были и свои оригиналы Чего стоит только Найдорф Борис Юрьевич, высокий, кучерявый, с огромным носом и глазами навыкате. Нам казалось, что он знает все. Преподавал он у нас физику, но и кружки вел: астрономический, фотокружок, кружок моделирования и ещё ряд каких-то кружков. Ходил он зимой и летом без головного убора. Когда он шел по улице, бабки оглядывались и крестились и, по-моему, даже собаки неистово лаяли. Это был истинный представитель еврейской нации – умный, образованный человек. Он обладал огромной силой: кидал гири как пушинки, закручивал стодвадцатимиллиметровые гвозди в спираль, ребром ладони свободно перебивал черенок лопаты. Мы, пацаны, очень уважали его. Мне кажется, он абсолютно не подходил для школы. Впрочем, впоследствии так и вышло: он защитил диссертацию и работал в Новосибирском академгородке. Говорят, что он уже давно умер.
Много было и других интересных учителей. Судите сами: только из моих одноклассников с золотой медалью закончили пять человек и с серебряной – четверо, из двадцати пяти выпускников нашего класса высшее образование получили двадцать четыре.
Тогда школа нам казалась большой и просторной, она имела П-образную форму, центральный вход, длинный коридор, напротив располагались классные комнаты, в основном проходные, в крыльях школы располагались тоже классы, в них занимались в основном старшеклассники, ещё в правом крыле были библиотека и лаборатория, а в левом – кабинет директора и учительская. Весной и осенью на переменах все стремились выйти на улицу, а зимой гуляли парочками-тройками по коридору, иногда даже устраивали хороводы, пели песни. В правом торце коридора была сцена с занавесом, там по праздникам устраивались школьные концерты.
Особенно мы любили школьные вечера, которые всегда проводились в канун каких-нибудь праздников, робко приглашали на танец девчонок-одноклассниц. Вальс тогда был в моде, но его редко кто умел танцевать, да и танго нам нравилось больше, потому что можно было поближе прижать к себе девушку, поговорить с ней. Любили играть в почту, писали письма по номеркам, в шутку признавались в любви, чаще писали всякую ерунду. Танцевали в основном под радиолу, приносили с собой пластинки с модной в то время музыкой, но упаси Бог твист или чарльзтон танцевать: это считалось подражанием западу, стиляжничеством и строго каралось на комсомольских собраниях. Особым уважением пользовались те, кто играл на баяне или гитаре, но таких были единицы. Например, мой одноклассник Лёня Меренцов пользовался особым уважением у девчонок: он единственный из нашего класса играл на баяне.
Дисциплина в школе по тем временам была жесткой, никто не бил окон, не бегал сломя голову по коридорам, а курить ходили чуть не за сто метров от школы, прятались от директора и от учителей, правда, курили почти все и тогда. Да чего греха таить, по праздникам иногда и винцо попивали, правда, не в школе, а у кого-нибудь дома, и старались взрослым на глаза не попадаться.
С начала учебного года, практически весь сентябрь, вся школа, начиная с пятого класса, работала на уборке совхозного картофеля, овощей. А нам что, пацанам, лишь бы не учиться. Вот такое у нас было понятие.
В начале шестидесятых по всей стране стали создаваться школьные ученические бригады. Наша школьная бригада была одной из лучших в области. Мы в старших классах изучали трактор, сельхозмашины и весной с удовольствием работали напарниками у трактористов на весенне-полевых работах, засевали свои школьные поля, а потом всё лето ухаживали за посевами, а девочки в основном работали на прополке. Жили мы на полевом стане: в одном вагончике девчонки, в другом ребята. С нами старшими были учителя, а также кто-нибудь из опытных работников совхоза. А своего бригадира мы выбирали сами. Работать старались хорошо. Бригада у нас располагалась в живописном месте Уварово, прямо возле речки. В свободное время мы купались в речке, играли в футбол, волейбол, а по вечерам разбредались парочками кто куда. То время было чистое, родители за нас абсолютно не переживали.
Я думаю, школа, коллективизм нам здорово помогли в жизни. От совхоза за нами был закреплен бригадир Колесников Егор Макарыч. По-моему, образование у него было не более одного класса церковно-приходской школы. Он курил папироски «Байкал». Егор Макарыч вообще был большой юморист и анекдотчик, иногда «солёные» анекдоты он и нам, старшеклассникам, рассказывал. А когда мы у него просили закурить, он, напустив на себя строгость, говорил: «Бессовестные, у учителя просите закурить! Как вам не стыдно, бездельники! Другое дело, если бы я потерял папиросу, а вы подняли». Он, продолжая бурчать, уходил, а мы за следом подбирали «случайно утерянные» папиросы.
Но жизнь на месте не стоит. В 1968 году я вернулся из армии. Нашей любимой старой школы уже не было, на другом месте построили новую, большую, трехэтажную школу. Старую разобрали на стройматериалы, а потом на еë месте построили современный дом культуры. За школьным садом ухаживать стало некому, центральная аллея заросла бурьяном, в некогда красивом школьном саду гуляет скот, а сосенка та давно погибла.
Понятно, что ничего вечного нет, время не стоит на месте, но щемящее чувство безвозвратно ушедшего времени нет-нет да коснется самой глубокой, потаенной струнки души. Многих шустрых, непоседливых когда-то учеников уже нет на этом свете, а кто-то стал глубоким стариком, но все живые никогда не забудут порог того дома, откуда они сделали свой первый шаг в жизнь.
РЕЧКА МОЕГО ДЕТСТВА
Наша речка Бурлук свое название вполне оправдывает. Летом это тихая, спокойная, мелководная, с чистым песчаным дном, речушка. Вверх против течения, примерно в пяти-шести километрах от села, всё чаще попадаются омуты, заросшие по берегам осокой, ряской, богатые рыбой, и не только чебаком и окунем, но и частенько ловилась крупная щука. А ещё выше, против течения, начинается урочище Уварово, там речка уже течёт в скалах с глубокими омутами и перекатами. Очень красивые места: высокие скалы, а внизу русло реки, по краям обросшее тальником, черемухой, шиповником. В некоторых местах к воде вообще подойти невозможно, только с берега можно увидеть глубокий темный омут.
Урочище Уварово названо по имени владельцев кожевенного завода Уваровых. Завод этот стоял недалеко от реки, на бугре. Остатки фундамента и сейчас еще можно различить среди зарослей чертополоха и кустарника, хотя с того времени, как завод перестал существовать, прошло более восьмидесяти лет.
Тихая летом, весной, в половодье, речка превращалась в бурный, сметающий всё на своём пути поток. Когда начинался ледоход, рëв был слышен на несколько километров вокруг. На берег реки высыпал чуть ли не весь народ, смотрели часами, как льдины, ломая друг дружку, неслись с огромной скоростью вниз по течению. Это зрелище было завораживающим. Потом также неожиданно ледоход заканчивался, и река, полная до самых берегов, несла свои мутные воды дальше, к реке Ишим. Потом недели через две-три река успокаивалась, вода светлела, и мы, пацаны, еще не дождавшись, когда вода прогреется, вовсю купались в промоинах и ямах, которые появлялись в разных местах после каждого половодья.
Мы любили свою речку. Садились на велосипеды, ездили на плёса купаться. Целый день там пропадали, ходили с удочками на рыбалку и без этой маленькой речушки не представляли себе жизни.
Недалеко от Константиновки, тоже вверх по течению, стояла небольшая деревушка Ерклеевка, но константиновцы это село называли не совсем приличным словом Засрановка, это потому что село стояло выше и как бы подсирало нижестоящим населённым пунктам. А ещё выше, километрах в десяти, было расположено село Сагаровка. Теперь уже ни того, ни другого села нет, не сохранились даже погосты.
Чуть выше села Сагаровки, примерно километрах в трех, начинается Бабыкский лес. Это довольно большой и чистый лес, в основном сосняк, и наша речка течет в скальной породе по южному краю леса. Как раз тут и есть самые интересные места. Кое-где по берегам бьют родники, вода в них прозрачная, холодная, одним словом, родниковая. В эти места нам, пацанам, на велосипедах было добираться трудновато, но всё равно мы туда добирались. А когда стали постарше, ездили на мотоциклах и на машинах, отдыхали семьями, с детьми.
В начале пятидесятых годов протянули шоссейную дорогу из областного центра, построили через реку красивый деревянный мост. Этот мост даже наша бурливая речка смыть в половодье уже не могла. Мост прослужил более двадцати лет, пока не построили новый, бетонный. Он являлся любимым местом молодежи, особенно летом, как только стемнеет, молодежь тянется к мосту и группами, и парочками. Машин в то время было мало, вот и гуляли там, тем более рядом стоят вековые тополя, Берестнев сад.
А дальше за мостом, левее знаменитого чахлого леска Чумбай, прямо посреди степи на небольшом холме было большое нагромождение огромных валунов. Это место называлось Баррикады, там собиралась молодежь по праздникам. Моста уже давно нет, его разобрали, камни на Баррикадах зачем-то взорвали, сильно постарел Берестнев сад, только речка всё так же неторопливо несет свои мелкие воды летом и почти так же бурлит весной.
Но всё равно это уже не та строптивая Бурлучка. Наверное, и она постарела вместе с нами. Много в своей жизни мы повидали и огромных рек, и малых, приходилось купаться и в море, но наша маленькая речушка все равно самая лучшая, потому что это речка нашего детства.
БАБА ЛИЗА
Баба Лиза вставала очень рано, особенно летом. Ещё нет и пяти утра, а она уже на ногах, идет корову Рябушку доить. Вставал вместе с бабушкой и я, шел с кружкой, чтобы баба Лиза нацвыркала туда теплого парного молока, неторопливо пил молоко, а бабушка, подоив корову, выпускала ее в стадо, которое уже с мычанием двигалось по улице. Это Костя Зайцев гнал его на пастбище ни свет ни заря. В деревне было позором, если какая-нибудь хозяйка просыпала и не успевала подоить и выгнать вовремя корову.
Потом бабушка хлопотала по хозяйству: кормила кур, поросят, собаку Черкеса, подметала вокруг двора, а я ходил следом за ней как хвостик, «помогал». Бабушка меня похваливала, говорила: «Молодец, помощничек ты мой, чтоб я без тебя делала». А мне было-то всего три-четыре года, но я гордился тем, что помогаю бабушке. Мама в это время таскала воду на коромыслах из колодца в бочки, которые стояли в огуречнике, это для полива огурцов, помидоров, табака. Наработавшись дома по хозяйству, кое-как позавтракав, мама уходила на работу в колхоз и там дотемна работала, как и большинство женщин, на скирдовке сена или на других сельхозработах. И так дотемна, ежедневно, без выходных и отгулов и почти бесплатно.
А вечером, на закате солнца в разных концах села слышались песни: это бабы ехали с работы на бричках, запряженных лошадьми, а иногда и рабочими волами. Удивительный был народ, работал от рассвета до заката, почти задаром, а ещё и пел... Отца мы вообще в летнее время видели очень редко, он работал трактористом тогда и целыми неделями и месяцами ночевал на полевом стане. Там стоял вагончик, в нем спали, ели, отдыхали. Ни о какой постели речи быть не могло: отработал почти сутки, кое-как умылся, перекусил, если было чем, и скорее спать на голые нары, а с утра снова на работу. И попробуй скажи слово, сразу загремишь на другие нары лет на пять-десять. Мы еще тогда были маленькими, не все понимали, но потом я видел натруженные руки родителей.
А баба Лиза тем временем, управившись с хозяйством, кормила проснувшегося младшего брата и ложилась отдыхать, но буквально через час-полтора снова вставала и начинала хлопотать по хозяйству.
Баба Лиза была маленького роста, худощавая, но энергии в ней было, наверное, на троих. Помимо того, что она везде успевала, она еще и была безоговорочным лидером в семье: как она сказала, так и будет. Без разрешения бабушки мама себе не могла даже платок купить. Наработавшись, баба Лиза садилась на лавку, вздыхала, часто произносила: «Господи». Наверное, она в памяти перебирала всю свою нелёгкую жизнь. Без дела бабушка сидеть совсем не могла: вязала всей семье носки, варежки, что-нибудь штопала и при этом всё вздыхала.
Спать в то время ложились рано, сразу с заходом солнца. Бабушка, прежде чем лечь спать, обойдет всех, перекрестит, сама помолится богу и только потом угомонится. Один, а то и два раза в неделю, она ходила попроведовать кого-нибудь из родных или знакомых в больницу, которая находилась в двух километрах от дома. Баба Лиза возьмет сумку, наложит чего-нибудь вкусненького и идет пешком навестить больных, и неважно, зима это или лето, такой у неё был ритуал.
Так и жила эта маленькая старушка, никогда не знавшая покоя, пока однажды сама не слегла. Болела она недолго, всего шесть дней, и тихо, никому не мешая, ушла из жизни. Она так и хотела не быть кому-либо обузой. Похоронили мы её светлым февральским днем. Крест я сделал сам. Прошло уже более тридцати лет, а крест, как новенький, так и стоит, даже не накренился. Так не стало нашей бабушки Елизаветы Осиповны.
МОЙ ДЕД
Мой дед, Изот Тимофеевич, был средним сыном из детей Тимофея Ильича. Он родился в 1891 году в Рязанской губернии н оттуда вместе с родителями и другими переселенцами прибыл на новое место жительства.
В молодости, по рассказам бабушки, это был высокий, статный красавец, озорной и задиристый. «Нет, - говорила бабушка моему отцу, - ты не в Изотку, ты смиренный, а Изотка был шибко озорной». Ни одна драка или стенка на стенку без Изотки не обходились. Помимо того, Изотка был очень способным малым, отлично учился в церковно-приходской школе. Тимофей Ильич всё мечтал, что сын его образумится и пойдет учиться в духовную семинарию, хотел видеть его священником. Не знаю, чем он руководствовался, но Изотка никак не подходил на роль священнослужителя, кроткого и смиренного.
И друзья у него были такие же, разбитные и хулиганистые. Это Федька Колесников, Иван Крылов и Мишка Воскобойников. Иногда они куда-то собирались, целую неделю перешептывались, а потом седлали коней и на несколько дней исчезали из деревни, куда – никто не знал. А потом они возвращались, иногда потрепанные и оборванные, но веселые и довольные. А в деревне поговаривали, что они ездят барымтачить, воровать скот у казахов, аулы которых располагались в 15-20 верстах. Потом действительно стало известно, что ребята этим иногда промышляли: нападут на табун лошадей, отобьют несколько голов и гонят в леса, казахи преследуют их несколько километров, но как только услышат ружейные выстрелы, сразу отстают, а конокрады угоняют лошадей куда-нибудь подальше, там продают по сходной цене местным перекупщикам. Слава Богу, до убийства не доходило. Поэтому они щеголяли в хороших яловых сапогах или даже в хромочах, а Колесников Федор даже гармошку купил, хотя стоила она почти столько же, сколько стоила хорошая лошадь. Казахи тоже частенько угоняли скот у сельчан, так что это был взаимный «обмен». Хотя властями такие действия не поощрялись, но и смотрело оно на все это сквозь пальцы.
Постепенно Изотка остепенился и в 1912 году заслал сватов к Родиным сватать мою бабушку, тогда ей было семнадцать лет. Как рассказывала бабушка, Изотка нравился ей за удаль, стать, да и семья была зажиточной и работящей. Так они поженились, а в 1914 году родился мой отец Василий.
Но сына Изот Тимофеевич видел до полугодовалого возраста, потому что в 1914 году началась первая мировая война, и моего деда и его брата Севостьяна забрали на фронт. А баба Лиза с маленьким ребёнком осталась одна. Как и где они воевали, я не знаю, но Севостьян вернулся в 1917 году, а мой дед попал в плен к Австрийцам. Он рассказывал, как там работал на одного зажиточного бюргера. Уже тогда в Австрии были машины для уборки пшеницы и других сельхозкультур, молотилки, маслобойки и даже тракторы. Он рассказывал, как там хорошо живут.
И всё же Изот Тимофеевич из плена сбежал, долго скитался по России без денег и документов и, наконец, вернулся на родину в 1920 году. В 1921 году родилась дочь Мария, моему отцу тогда уже было шесть лет.
Только дед настроился на мирный лад, как его снова забрали на войну, уже на гражданскую, но не за революцию, а вместе с Колчаковцами против Советской власти. Чем закончилась гражданская война, всем известно, но деду в родном селе оставаться уже было нельзя, и он побежал на юг, где было потеплее и повольготнее, и где было много народу. Там легче было раствориться, чтобы не попасть в жернова послереволюционного террора.
А баба Лиза снова осталась одна, но теперь уже с двумя малыми детьми на руках. Хорошо, что семья была дружной, и руководил всеми Тимофей Ильич. Как-никак, но они помогали моей бабушке и её малым детям до самого раскулачивания в конце двадцатых годов. А Изот Тимофеевич скитался где-то в городе Верном, теперь это город Алма-Ата. О своей жизни в городе Верном он особо не распространялся, но, как рассказывал отец, однажды Изотка, чтобы прожить как-то, торговал яблоками на местном рынке, сколько-то там наторговал и собрался идти к себе на ночлег. Тут его встретили двое каких-то бандюков и хотели забрать деньги. Дед стал сопротивляться, тогда один вытащил нож, с намерением воткнуть его делу в живот, но дед нож перехватил прямо за лезвие, сумел как-то вырвать его из рук бандита и всадил нож по самую рукоятку ему в бок. Второй, видя такую развязку, убежал. Так это или не так было, но шрам у деда был на всю ладонь. После этого дед перестал появляться на рынке и, когда сформировалась какая-то группа челночников-торговцев в Китай, он примкнул к этой группе и навсегда ушел в город Харбин, там тогда русских эмигрантов было очень много.
Вот тогда и потерялся след нашего деда надолго. А в 1956 году моему отцу пришло письмо из Алма-Аты от его дяди по отцу. В нем было написано, что объявился Изот Тимофеевич, что он живет с новой семьей в Талдыкурганской области. Это, конечно, очень всех удивило, ведь все думали, что он вообще пропал.
Мой отец, брат деда Севостьян Тимофеевич и сестра отца Мария сразу же засобирались ехать в Талдыкурганскую область. Баба Лиза отговаривала отца: «Зачем ты поедешь? Ведь ты совсем не знаешь и не помнишь отца». Но отец сказал, что хочет узнать, кто его отец, на кого он похож, что ему интересно, от кого же он произошел.
Я думаю, что он был прав: тому, кто вырос с родителями, с отцом, не понять.
И они в марте 1957 года поехали. Там они встретились. Встреча после такой долгой разлуки была очень волнующей. Дед Изот Тимофеевич приехал на родину с двумя дочерьми, Валентиной и Зинаидой, а жену свою, на которой он женился в Китае, похоронил в 1943 году в городе Харбине. Вот так более тридцати лет он прожил вдали от Родины, от родных и близких, очень сильно тосковал, но что поделаешь, такова жизнь. Потом китайцы начали выживать Русских со своей территории, и дед уже с новой семьей вернулся на Родину, но поселиться власти разрешили только в Талдыкурганской области. У дочерей уже были свои дети, а дед жил со старшей дочерью Валентиной.
Несмотря на то, что дед как бы бросил семью когда-то, мой отец и сестра его Мария, да и другие родственники, дружили с новой семьей деда. В 1963 году дед приезжал к нам в гости, отец возил его на мотоцикле по родным местам, они много вспоминали, дед много рассказывал, но я тогда как-то не особенно старался запомнить, а зря. Дед был очень грамотным, много повидавшим в своей жизни, а то, что я сейчас пишу, так это из рассказов бабушки, родителей. Отец предлагал бабе Лизе вновь соединиться с дедом и жить своей семьей, но бабушка категорически отвергла это предложение. «Зачем?- сказала она, - если уж молодость прожила одна, а теперь на кой он мне?». Да и у отца моего, честно говоря, характер был крутоват. Бабушка боялась, что отец начнет припоминать ему свое безрадостное детство. Лучше от греха подальше. Так они расстались. Дед умер в 1965 году, отцу дали телеграмму, но он как раз в это время как на грех сломал ногу, упав с коня. Нога была в гипсе, и поехать он не смог.
Так, на 74-ом году жизни скончался мой дед, Ляпин Изот Тимофеевич, похоронен он в Талдыкурганской области. Потом, в 1969 году в Константиновку приезжали обе его дочери, Валентина и Зинаида. Мои родители встретили их радушно, и потом долго, до самой смерти, отец с ними поддерживал связь. А старшая дочь Валентины, Люба, училась в Кокчетаве в техникуме и часто приезжала к нам в свободное время, все родственники, чем могли, ей помогали, и деньгами, и продуктами. У Валентины рос еще сын, моложе Любы, но какова их судьба, сегодня никто не знает. Знаю, что Люба вышла замуж и уехала в Оренбургскую область, город Новотроицк, дальше ничего не знаю. Слышал, что Валентина уже умерла, а у младшей дочери Зинаиды был сын. Фамилия у него тоже наша, он окончил военное училище, долго служил в армии, говорят, даже дослужился до генерала, но так это или нет, утверждать не могу. Где сама Зинаида, тоже не знаю.
И вообще плохо, что мы в молодые годы мало значения придаём родственным связям, а потом, когда становимся пожилыми людьми, искать бывает уже некого. Вот так закончилась жизненная эпопея моего деда. Нельзя судить строго его поступки. Мы не знаем до конца, как всё происходило, да и время было такое. А кто может знать, сколько он пережил, что он чувствовал на чужбине?
Спасибо ему уже за то, что он дал жизнь моему отцу, который прожил её честно и достойно, и нам, его потомкам, внукам. Как любила говорить наша бабушка Лиза: «Бог ему судья, Бог его простит».
МОИ РОДИТЕЛИ
Родители часто рассказывали нам, детям, о своей жизни или просто сами начинали вспоминать прошлое, и меня всегда удивляла их память: они помнили в подробностях события тридцати-сорокалетней давности, людей и даже животных. Например, мама заводила разговор: «А помнишь, как у Крыловых был гнедой конь, высокий иноходец, который один раз взбесился и чуть не угробил хозяина?». Отец тоже помнил, и они начинали вспоминать сначала лошадей, потом людей и так воспоминания лились, как ручей. Кто-нибудь говорил, другой поддерживал, дополнял, иногда они спорили, не соглашаясь с некоторыми деталями, но потом приходили к общему согласию, и воспоминания продолжались, а мы, будучи еще небольшими, играли в свои игры и в то же время внимательно слушали и запоминали то, о чем уже не в первый раз говорили наши родители. Часто мы задавали вопросы, и они нам терпеливо рассказывали, особенно мама. Поэтому я, можно сказать, в подробностях знаю о жизни наших родителей с самого их детства и до глубокой старости.
Наши родители оба родились в селе Константиновке в 1914 году. У них у обоих было трудное детство. Я уже где-то писал в своих воспоминаниях, что отец вырос полусиротой. Работать, помогать матери по хозяйству начал с шести лет. Мама тоже выросла без отца, и она его не очень помнила, но хорошо помнила своего деда Романа, много о нем рассказывала.
Родом они были из Пензенской губернии, и если рязанцев дразнили косопузыми, то выходцев из Пензенской губернии звали пензяками или даже пензюками. А разговаривали они нараспев и вместо буквы Е часто говорили Я: бярн, пятух, ня надо и т.д.
И те, и другие в основном были мастеровыми: плотниками, печниками, пимокатами, шорниками, в общем, умели делать всё. В то время как семья моего отца была оседлой, семья моей мамы постоянно кочевала из одной деревни в другую.
Все предки и родственники отца были русоволосыми, светлокожими, высокими ростом, предки же мамы, да и она сама, были черными, как смоль, черноглазыми и коренастыми. Мама как-то проговорилась, что в роду у них когда-то были цыгане. Так это или не так, но все признаки цыганского происхождения были налицо, начиная от имени прадеда (Роман – Ромалэ), кончая цветом волос и глаз, а также постоянной тягой к переездам с места на место.
Мама иногда не успевала запомнить место, где они только что жили, как снова надо было сниматься и ехать. Подольше они задержались только в Привольном, потому что у них там была своя водяная мельница, и дед Роман сам был мельником. А отец мамы нанялся ямщиком и где-то по дороге в Акмолинск тяжело заболел от простуды и умер прямо в степи. Друзья там же похоронили его, а коней продали и прогуляли на помин его души. Теперь уже никто никогда не узнает, где его могила, и песня как будто про него: «Степь да степь кругом».... Маме в то время было всего семь лет, и отца своего она помнила смутно, говорила, что у него была большая черная борода, кучерявый чёрный волос на голове и черные, как уголь, озорные глаза. Мне почему-то он представляется похожим на Будулая из кинофильма «Цыган». Такова судьба моего деда по материнской линии, Михайла.
Вот так и остались без отца моя мать, два её старших брата и сестра Александра. Семье повезло в том, что был еще крепок и здоров дед Роман. Мама говорила, что он умел всë: хоть плотничать, хоть столярничать, был хорошим кузнецом, мог катать валенки, выделывать шкуры, шить шубы и шапки и много чего ещё умел. Но это и неудивительно: в то время многие умели делать все, потому что жили натуральным хозяйством. Вот и мама многое переняла у своего деда: она сама шила нам рубашки, штаны и даже катала валенки.
У мамы, как и у всех её предков, был черный, как смоль, вьющийся волос, глаза карие и кожа смуглая. Когда они поженились с отцом, баба Лиза сноху из-за того, что она такая чернявая, не очень любила. Когда они вздорили, она называла маму цыганкой черномазой, на что мама очень сильно обижалась.
Братья мамы поженились, сестра вышла замуж за Фильченко Федора из села Гусаковки и маму забрала к себе, так она со старшей сестрой Шурой прожила до восемнадцати лет. Брат Василий был старше мамы на двенадцать лет, и она его не очень хорошо помнила, а брат Костя был старше всего на два года, и они очень дружили и любили друг друга. Оба брата мамы погибли в Великую Отечественную войну. После второй похоронки, бабушка Настя, мать нашей мамы, от горя тронулась умом и через полгода в 1943 году умерла.
У старшего брата, Василия, осталось два сына и дочь, живут они в Киргизии в городе Ош, связь с ними мы не поддерживаем. У брата Константина было двое детей, Мария и Петр. Петр в 26 лет умер нелепо от заражения крови, а Мария жила на Украине и умерла шесть лет назад, в 1998 году, в возрасте 60 лет. У старшей сестры, Александры, было пятеро детей. Самая старшая, Мария, живет в Кокчетаве, ей сейчас
уже 82 года. Она плохо видит и передвигается, живет в квартире одна и ей практически никто не помогает. Когда-то миловидная и интеллигентная, эта женщина превратилась в немощную, никому не нужную старуху. Все трое сыновей тети Шуры ушли из жизни в расцвете сил, к большому моему сожалению. Может быть, об этом писать не следовало, но я пишу для себя, поэтому стараюсь как можно правдивее описать все события. Братья очень любили выпить, и поэтому жизнь их была непродолжительной и бестолковой. К сожалению, и дети пошли по их стопам. Младшая дочь, Галина, живёт тоже в Кокчетаве, но со старшей они всю жизнь не мирят, в основном по вине Галины, и друг с другом почти не общаются.
Мой отец рос симпатичным русоволосым парнем, очень работящим и самостоятельным. Этому научило его раннее вступление во взрослую жизнь, потому что с шести лет он остался сиротой при живом отце и с этого же возраста помогал матери по хозяйству. Я думаю, что свою мать, нашу бабушку Лизу, отец любил и почитал очень сильно, во всём ее слушался беспрекословно и выполнял всё, что бы она ни приказала. По этому поводу у родителей часто возникали между собой ссоры. Моя мать не очень-то хотела терпеть указания и выполнять прихоти бабы Лизы, но отец безропотно молчал, хотя я не считаю, что он был слабохарактерным человеком.
Родители поженились в 1935 году. Отца в тот же год послали на курсы трактористов. В то время честь учиться на курсах трактористов или шоферов надо было заслужить. Учился отец целый год в Токушах Акмолинской области. Не знаю, как их там учили, но отец до самой смерти помнил основные правила работы узлов двигателя и самого трактора наизусть. После окончания курсов трактор сразу не давали. Сначала надо было поработать год-два помощником тракториста, а уж потом почет и слава, потому что в то время тракторист приравнивался на селе к сегодняшнему космонавту.
Отец был неплохим механизатором, поэтому его оставили по брони и не забрали на фронт в Великую Отечественную войну. А мама в это время работала дояркой, разнорабочей в колхозе, в общем, куда пошлют, и всё за трудодни, считай, бесплатно. Потом в конце года на эти трудодни выдавали натуроплату: зерно, муку, сено, солому и т д. Того, что давали, не хватало, и люди жили впроголодь, денег вообще не давали.
Первый ребенок родился в 1937 году, назвали Алексеем, но он умер в годовалом возрасте, а потом рождались дети и умирали, прожив один-два года. Только Верочка у нас, всеобщая любимица, прожила 5 лет, умерла в марте 1945 года от кори. Отец как раз в это время находился в командировке, ни какой связи тогда не было. Ехал он домой радостный, купил ботиночки красные для Верочки, а когда переступил порог дома, он все понял, пошел сразу на могилки и долго оттуда не возвращался. А потом он каждый день ходил проведать любимую дочку, возвращался с мокрыми красными глазами. Очень тяжело переживал.
Не знаю, в чем причина, но у родителей умерло восемь детей в младенческом возрасте. Все они похоронены в одном месте, им я поставил оградку, в следующий приезд на родину обязательно поставлю памятник.
Хотя мама с бабушкой иногда вздорили между собой, всё равно семья у нас была дружной, трудолюбивой, и жили мы по тем временам не хуже других. Я не знаю случая, чтобы наши родители что-нибудь взяли без спроса, даже в колхозе, где теоретически всё общее. Этому учили они и нас: лучше останься голодным, но чужого не бери никогда. Верующими я своих родителей назвать не могу. Так, не отрицали, но и не молились.
С самого раннего детства отец брал нас с братом на покос сена, целый день махал на жаре косой. Мы еще были маленькими, но, как могли, старались, помогали сгребать подсушенное сено в копешки. Отец в обед расстилал чистое полотенце где-нибудь в тени, под березой, нарезал хлеб, сало, лук, ставил бутылку с молоком, воду, и мы молча начинали обедать, довольные и счастливые от того, что хлеб едим не даром. Потом мы отдыхали все трое и не слышали, как отец потихоньку, чтобы нас не разбудить, поднимался и продолжал ритмично махать косой. Подсушенное сено отец складывал на повозку, увязывал, садил нас наверх, давал кому-нибудь из нас вожжи в руки и мы ехали. А отец, несмотря на то, что целый день на жаре работал, брал в руки заранее заготовленную лозу и начинал плести корзину.
Честное слово, я не видел никогда, чтобы наши родители сидели без дела, руки у них всегда были заняты. Мать тоже, наработается в колхозе, потом еще дома по хозяйству: постирать, погладить, наносить воды из колодца для полива. А мы еще удивляемся, почему у нас народ часто болеет и рано умирает.
А как умели наши родители, родственники гулять по праздникам! Выпьют немного, и давай веселиться, особенно любили песни петь. Песни были хорошие, русские, украинские, протяжные и весёлые. Они знали, кто как поет, кто выводит, кто поет вторым голосом. Я никогда не прощу себе, почему не записал на магнитофон, как они пели, ведь и магнитофон у нас был. К сожалению, сейчас так уже не поют.
А в 1962 году мама и дядя отца попали в аварию. Дядя, Петр Осипович, брат
бабы Лизы, через несколько дней умер, а мама до конца дней своих промучилась с головной болью. Местные врачи сшили, собрали её буквально по кусочкам, но внешность её сильно изменилась, она уже не стала похожей на ту чернявую, миловидную женщину, слава Богу, что хоть выжила. Родители жили дружно, очень редко ссорились, хотя характер у отца был непростой.
После смерти матери в 1984 году отец попытался жить в своем доме самостоятельно, но здоровье было уже не то, он стал часто болеть, и мы уговорили его переехать в нашу семью. Я тогда работал директором совхоза, дом у нас был большой, дети еще подрастали, и отец согласился. Я думаю, об этом он не пожалел. Так с нами он прожил шесть лет, все время старался чем-нибудь помочь, очень боялся быть обузой в семье. Он считал своей обязанностью ходить по магазинам за продуктами, следил за чистотой вокруг дома, управлялся по хозяйству. Все его уважали и любили, особенно наш сын Сергей, они с дедом были друзья не разлей вода. У отца было много планов на будущее, но сбыться им было не суждено. В 1990 году, в октябре, ему неожиданно стало плохо, отвезли в больницу, где он умер на третий день от инсульта.
Похоронили мы его в Константиновке, рядом с мамой. После похорон в нашей семье было такое состояние, что мы никак не могли поверить в то, что отец уже никогда не вернется в этот дом, в свою комнату. Нам еще долго казалось, что вот сейчас откроется дверь, и наш дед появится на пороге, что отсутствовал он временно. И как бы ни жилось комфортно ему у нас в семье, отец все равно тосковал без мамы, с которой прожили они без малого пятьдесят лет. Видел я, как он иногда украдкой вздыхал, и за те шесть лет, что он прожил один, память и тоска его не притупились. Может быть, ему иногда хотелось поговорить, излить наболевшее, но мы, к сожалению, тогда ещё слушать не умели, все время куда-то спешили, увлеченные круговертью современной жизни, другими понятиями, другим осмыслением жизненных ценностей. Жалею я все-таки о том, что мало внимания мы за повседневной суетой уделяем своим старикам, и осознавать я это стал только сейчас, когда у нас самих уже взрослые дети и есть внуки.
Вот так прожили свою жизнь наши родители: очень много работали и почти ничего не получали за свой непосильный труд. За всю жизнь денег они так и не накопили, как ни трудились. Да Бог с ними, с деньгами...
КОНСТАНТИН САФРОНОВИЧ
В каждой деревне, маленькой или большой, - неважно, есть люди своеобразные, чем-нибудь отличающиеся от других. Это могут быть разные люди, например, богатые, почтенные, с обостренным чувством собственного достоинства. Есть умники, которые везде суют свой нос, всем советуют, что-то, куда-то пишут, суетятся, мешают. От них отмахиваются, как от назойливых мух, но по сути своей эти люди вреда никому не приносят, как, впрочем, и пользы. Есть свои хулиганы, драчуны, без которых не обходится ни одно мероприятие, будь то свадьба или похороны. Им все равно, они найдут повод и обязательно затеют драку, больше всех им самим и достанется. Были у нас такие братья Барашкины, сами плюгавые, некрасивые, но задиристые и драчливые.
Есть злобные писаки – это, как правило, больные люди, они какие-то желчные, вечно чем-то недовольные, завистливые, ворчащие, все время куда-то пишут жалобы. Такие люди, как правило, долго не живут: по-видимому, зависть, недовольство, желчь разъедают их изнутри, как раковая опухоль. Она отравляет им жизнь, и так, в змеином шипении, они постепенно чахнут, и если семья еще не успела заразиться, то родные с облегчением продолжают жизнь после смерти такого завистника, но сблизиться с окружением, соседями им практически не удается, так сильно ржа въедается во весь их род.
Есть в каждом селении и свой Щукарь, чуть похожий или чуть не похожий на классического Щукаря, но по-своему своеобразный и неповторимый. Как раз примерно таким и был Константин Сафронович Зайцев, о котором пойдет речь впереди.
Род Зайцевых начался из Рязанской губернии. И если основная масса людей-переселенцев старалась осесть основательно на новом месте, строили дома, обзаводились скотом, получали свои десятины земли, то Зайцевы, честно говоря, были с ленцой. Своим хозяйством им было заниматься лень, они нанимались кто батраком, кто пастухом, работая за кусок хлеба и чашку похлебки на чужих подворьях.
Константина Сафроновича, дядю Костю, я запомнил тщедушным стариком, со скомканной редкой шевелюрой под облезлой шапкой, вечно не бритыми щеками с рыжей щетиной и стойким табачно-самогонным духом. Это был вечный пастух. Говорят, он в молодые годы служил у самого Буденного в коннице, я не знаю, так это или нет, но конь, если это животное можно было назвать конем, у дяди Кости был. И вот что интересно: они друг на друга чем-то неуловимым были похожи. Конь был такой же старый, ребра наружу, грива скомкана, вся в репьях, низкорослый с понурой большой головой и слезящимися от старости глазами. Когда дядя Костя входил в очередной запой, он привязывал коня к столбу или к какой-нибудь другой привязи, сам пил водку, отключался, спал, просыпался, снова пил, а конь терпеливо и понуро стоял на привязи, лениво отмахиваясь от назойливых мух, терпеливо ждал хозяина. Тот на какие-то мгновения приходил в себя, еле-еле забирался в седло, и конь сам покорно брел домой. Там дядю Костю снимали с седла, заносили, как куль, домой, а коня отпускали на выгон, там он пощипывал траву, ложился отдыхать, а утром, с рассветом, он уже лениво гонялся за непослушным молодняком. Верховой, как ни в чем ни бывало, выгонял скотину на пастбище.
Помню, бабушка часто выносила пастуху яйца вареные, огурцы, хлеб, другую снедь, чтобы он лучше доглядывал за нашей Зорькой. А он говорил: «Слушай, Лизавета, ты бы лучше стакан бражки налила, а то что-то голова болит». «Ага, щас! - ворчала беззлобно бабушка.- Опять скот растеряешь, давай-давай, езжай». Костя щелкал своего скакуна кнутовищем и продолжал собирать по улице скот, громко чертыхаясь и матерясь. А бабушка была права: если Костя напивался, он бросал стадо на произвол судьбы, и оно разбредалось по степи, часто заходя в посевы. Бригадир ругался на чем свет стоит, собирал загонщиков, те еле-еле выгоняли разбредшийся скот, но зато вечером коровы прибавляли молока, наевшись свежей зелени до отвала. Люди хоть и ворчали на Костю, но в душе были довольны. А иногда, наоборот, загонит в речку на целый день, и коровы приходят домой голодные и почти без молока, но это случалось редко.
Зимой, когда скот стоит на подворье, Костя катал валенки. Правда, заказы он выполнять не спешил, катал в перерывах между попойками, но, надо отдать должное, валенки у него получались отменные, как игрушки, потому и терпели Костины выходки заказчики.
Весной, когда уже появлялись проталины, собирались лужи на улицах, Костя мог сесть в пьяном порыве прямо в лужу. Снимал калошу с валенка, хлопал ею по луже, обрызгивая прохожих, и весело хохотал. Прохожие старались обойти это место стороной, иногда показывая пальцем у виска. А Косте было весело, он брызгался и хохотал. Иногда, падая в лужу, засыпал. Никто его не поднимал, все давно привыкли к пьяным выходкам, смеялись, а он порой примерзал вместе с ледяной корочкой в луже. Затем, проснувшись, поднимался, брел домой, но при этом никогда не болел.
Иногда Костя приезжал на своем «скакуне» в баню. Привязав его к столбу, раздевался и заходил сразу в парную, а там уже сидели самые заядлые парильщики. Заходя, Костя кидал на каменку ковша три-четыре воды, все, как горох, слетали с полки, а он начинал париться. Казалось, от жары уши свертываются, а веник ловко летал по тщедушному телу старика, он просил, чтобы еще парку подкинули, и мы старались, кидали воду в каменку, приседая до самого пола от жары, а веник всё летал и летал, разгоняя нестерпимый жар. Так продолжалось минут десять-пятнадцать, потом Костя выливал на себя тазик холодной воды и выходил красный, как рак, в раздевалку. Тяжело дыша, доставал из кармана пиджака уже початую бутылку бормотухи, отпивал добрую порцию, охал и, не вытираясь, одевался. Конь всегда ждал, Костя садился в седло и ехал по только ему одному ведомым делам.
Иногда Костя заходил на свадьбы, именины, другие гулянья. Его никто никогда не выгонял, наливали рюмку-другую, он, кряхтя, выпивал, поздравлял молодых и, покачиваясь, уходил. Не было случая, чтобы он когда-нибудь испортил кому-нибудь праздник. Но старик заходил так запросто не ко всякому. Кого он не уважал, он обходил стороной, говорил: «Это нехорошие люди, я туда не пойду». Многие даже рады были, когда Костя заходил. Потом он несколько дней рассказывал, как его угощали, какие хорошие люди. А на селе это немаловажно.
И вот интересно: живет такой почти никчемный человек, ни тепла от него, ни холода. А он человек со своими странностями, со своими, только ему одному ведомыми, сомнениями, думами, своими интересами, наверное, со своей болью. И мы как будто его не замечаем, он для нас как бы сбоку, как данность на этом свете.
Но вот дядя Костя однажды, уже в семьдесят лет, сел в седло, огрел слегка своего верного «скакуна», всхлипнул как-то странно и обмяк. Умер прямо в седле.
Похоронили его тихо: пришли соседи, родственники, помянули добрым словом и, казалось бы, забыли. Но нет, не стало человека, и как будто что-то ушло из жизни навсегда. Не стало Кости – ушла частичка жизни нас самих. Больше уже такого человека среди нас никогда не будет. Как-то тоскливо на душе становится. Оказывается, каким бы ни был человек, но он человек, он был среди нас. Нет-нет, да кто-нибудь вспомнит Константина Сафроновича, дядю Костю: «А помнишь?..».
ЮРКА БОГАТЫЙ
Из всех репатриированных в 1944 году самыми бедными и оборванными были почему-то греки. Семьи у них были большими, по шесть-восемь человек. Вместо обуви на ногах часто были надеты постолы – это такая обувь из сырой свиной кожи. Она высыхала, и ходить в ней было практически невозможно, но греки, за неимением другой обуви, ее носили. А константиновцы дразнили их пиндосами и греческими посталами, на что они сильно обижались.
В Константиновке поселился Юрий Хаджифеодариди, жил он тоже очень бедно, был безлошадным, ютился с семьей в покосившейся землянке. Однажды он отвез в райцентр на подводе какой-то груз и налегке возвращался домой. К нему в попутчицы напросилась женщина, он ее взял. Пока ехали, разговорились, и тут Юрий начал рассказывать, как хорошо он живёт, что у него самый большой и красивый дом в Константиновке, двор полон скота, дети сыты, обуты и одеты, а сам он работает бригадиром, и у него всегда водятся деньги. В общем, всю дорогу он рассказывал попутчице о своей счастливой жизни и даже приглашал в гости, если будет такая возможность. Доехали они до деревни, женщина поблагодарила Юрия за то, что он подбросил её, и они расстались, ей надо было добираться до следующей деревни.
Как оказалось потом, эта женщина работала в районе налоговым инспектором и часто разъезжала по служебным делам по сельсоветам. Иногда ей приходилось оставаться в некоторых деревнях на ночлег, ведь в то время автобусного сообщения ещё не было, и добирались кто как мог, на попутках.
И вот однажды эта женщина заехала по своим делам в наше село, работу свою за один день она закончить не успела и решила у кого-нибудь заночевать. Тут она вспомнила, как когда-то летом довозил её Юрий-грек и приглашал при случае навестить его семью. Почему бы не воспользоваться приглашением?
Она попросила секретаря сельсовета подсказать, где живет Юрий. «У нас тут много Юриев, какой вас интересует?» - спросила секретарь. «Ну, такой, фамилию я не запомнила, но он очень богатый, у него самый большой дом в вашей деревне», - был ответ. Секретарь – женщина местная, знала всех, как облупленных, и она догадалась, про какого Юрку Богатого идет речь. Она чуть со смеху не покатилась: «Юрка? Да у него землянка вот-вот развалится, а он – болтун, каких еще поискать надо!». В общем, она рассказала, кто такой Юрка Богатый, и они весь вечер хохотали от души.
Но надо знать константиновцев: это всё равно, что Габрово в Болгарии, и если уж попал на язык местным острословам, то всё – клеймо прилипнет на всю оставшуюся жизнь. Вот так и Хаджифеодариди Юрий стал Юркой Богатым.
У них с Парфеной было трое детей: Павлик, Костя и Зоя. Такого воровитого пацана, как Павлик, белый свет не видывал. Воровал он все, что попадало ему на глаза, и неважно, соседи это были или знакомые, родственники или приятели. Он тащил всё: мел у школьной доски, известь со стройки, голубей у соседей, варежки у приятелей, мог стырить деньги, у отца воровал папиросы, деньги.
Юрка Богатый в то время уже работал на автолавке, возил по деревням товары: продукты, водку. Так Павлик умудрялся воровать даже у отца из автолавки. И как только ему не попадало, он все равно не каялся и продолжал воровать и ничего с собой поделать не мог. Ему часто попадало и от сверстников.
Однажды мы работали на уборке совхозной картошки, так он и там умудрился украсть полмешка крупной картошки, зачем – непонятно, ведь у каждого в селе было столько насажено картошки, что её девать было некуда. В это время как раз на своей знаменитой автолавке на поле подъехал его отец, Юрка Богатый. Учительница пожаловалась ему, что Павлик взял картошку. По-видимому, Богатому стало стыдно, и он поймал сына, на глазах у всех поднял его за уши, влепил такой подзатыльник, что Павлик летел кувырком по полю метров пять. Учительница уже и не рада была, что сказала.
Учился Павел в школе очень плохо, задерживался в каждом классе по два года, но я сомневаюсь, что он научился читать. И вообще с Павлушей всегда приключались какие-нибудь приключения. Судите сами.
Однажды мы пошли в лес Тургай, в старую усадьбу генерала, там в то время располагался лесхоз и заброшенные сады всё ещё кое-как охранялись. Мы решили поживиться яблочками-ранетками или другими ягодами. Проходя мимо конторы, мы заметили в палисаднике уже созревшую малину. Павлик предложил забраться в малинник, мы его сначала отговаривали, но потом согласились. Обошли здание с тыльной стороны, перепрыгнули через ограду и гуськом, на полусогнутых, осторожно направились за угол, где росла малина. Павел был впереди, мы трое – за ним. Только Павел высунулся из-за угла дома, как сторож, уже заметивший и поджидавший нас, огрел что есть силы его по голове. Павел от удара и неожиданности взвыл, как раненый зверь, а мы с испугу рванули что есть мочи в ближайшие кусты, позабыв в спешке про Павла.
Минут через двадцать Павел подошел в условленное место, держась за голову, в глазах у него стояли слёзы. Потом он снял свою знаменитую фуражку-аэродром, и мы увидели огромную продолговатую шишку, как вал, пролегающую поперек головы, а Павел двумя руками прикрывал её и горько плакал. Нам стало жалко его, и мы по очереди стали гладить шишак и громко, от души ему сочувствовать. Потом мы не солоно хлебавши пошли домой по лесной просеке, а Павел всю дорогу хныкал.
Мы прошли по просеке километра два, когда услышали шум буксующей машины. Мы же были любопытные, подошли поближе посмотреть, как буксует завязший по самую ось в промоине старый газончик. Водитель старается взад-вперед раскачать машину, газует вовсю, аж жижа в колдобине нагрелась, а от лысого баллона валит пар от сильного трения. Мы взялись помогать: стали раскачивать машину, а Павел, как всегда, решил увильнуть, нагнулся почти к самому колесу и стал смотреть, как оно вращается, выбрасывая позади себя жидкую грязь и комья земли. И надо же было такому случиться, что в это время раздался оглушительный выстрел: это старая лысая шина от трения и температуры разорвалась в клочья. Павлика отбросило метра на два, он лежал на спине в неестественной позе, с ног до головы забрызганный грязью, а знаменитая фуражка-аэродром, в клочья разорванная, висела на ближайших кустах.
Видел бы кто-нибудь в это время рожу Павла. Он поднялся, протирая глаза, и снова заплакал, когда увидел, что от фуражки остались одни клочья, и все приговаривал: «Фуражку подарил дедушка Харлампий». И мы поняли, что Павел плакал не от боли или обиды, а ему очень было жалко фуражку, которую подарил какой-то дедушка Харлампий. Фуражка была ветхой, по-моему, она была ровесницей самого дедушки, которого мы, правда, никогда не видели.
Или вот еще случай. Нас, школьников, иногда в летние каникулы привлекали на работу в лесхоз, и там мы продергивали саженцы, занимались прополкой, ухаживали за молодыми деревцами. За это нам платили небольшие деньги. Жили мы в общежитии на территории лесхоза. Вставали рано, чтобы поработать по холодку, а умываться холодной водой не хотелось, и мы ставили на костер большой дюраллюминиевый чугунок, грели в нем воду. Один из нас пошел в колодец за водой, а кто-то поставил пустой чугунок на огонь. Павлик стоял рядом в семейных длинных трусах и в резиновых сапогах с широченными голенищами на босую ногу. Чугунок без воды так нагрелся, что начал от температуры на глазах у нас деформироваться и разваливаться. Кто-то взял и ударил палкой по этому злосчастному чугунку. От него отлетел кусок полурасплавленного металла и угодил прямо Павлику в сапог. Раздался истошный крик, и Павел пронесся, как метеор, мимо нас, пробежал метров десять, упал на спину и начал дрыгать ногами. Раскаленный кусок металла выпал из голенища и попал на голый живот многострадального Павла, он снова заорал, вскочил и понесся в лес по просеке куда глаза глядят. А нам-то было по 14-15 лет, и мы хохотали до рези в животах.
После этого случая Павлик молча собрал свои вещи и, ни с кем не попрощавшись, покинул наш веселый стан, правда, не забыв попутно прихватить кое-что из наших личных вещей: у кого пропал перочинный ножик, у кого – фонарик, у кого – копейки или даже носовой платок. Потом мы еще долго вспоминали этот случай и хохотали, каждый раз приукрашивая его новыми подробностями.
Отец Павла, Юрка Богатый, работал на автолавке и постоянно в кабине возил мелкокалиберную винтовку. Однажды он приехал на обед, поставил машину возле дома, забыв винтовку разрядить, а Павлик залез в кабину, взял винтовку, в шутку навел её на сестру и нажал на курок. Прогремел выстрел – он попал ей прямо в голову. Пока девочку довезли до больницы, она скончалась. Павлик где-то спрятался, но отец нашел его и бил так, что сбежались чуть ли все соседи, еле отбили Павлика, а рев было слышно на всю деревню. Но и после этого Павлик не изменился, был все таким же воровитым и бесшабашным.
По-видимому, Юрка Богатый сколотил некоторый капиталец, работая на автолавке, и они уехали жить в Караганду. Павлик отслужил в армии, а вернувшись где-то выучился на стоматолога и стал вставлять зубы. Не знаю, каким он был стоматологом, но когда я увидел его лет через десять, я его просто не узнал: из сутулого воровитого хмыря он превратился в здоровяка с золотыми зубами и перстнями на пальцах, упитанного и вальяжного. А его отец, Юрка Богатый, действительно стал богатым, купил в Караганде большой дом, приезжал несколько раз в Константиновку на собственной черной волге. Вот тебе и шутка: прозвище попало прямо в яблочко.
Юрка Богатый десять лет назад умер, Павел совершил крупную автоаварию, отсидел в тюрьме, освободившись, снова работал стоматологом. Говорят, он тоже умер от передозировки наркотиком. Правда это или нет, я точно не знаю, но знаю, что, при всей своей никчемности, воровитости и бесшабашности, по сути своей он был безвредным и добродушным человеком, со своими странностями, и мы его принимали таким, какой он есть. Не всем же быть похожими друг на друга.
БУРАН
Эту историю когда-то в детстве рассказал мне отец, записал я её уже будучи взрослым, по памяти.
В те далекие годы, еще перед войной, бураны были жуткие: бывало, по 2-3 недели люди не могли выйти из домов, скот поили талым снегом, сено и солому держали всегда в сараях. А когда устанавливалась погода, село узнать было невозможно, из снега торчали только трубы. Мужики копали тоннели, чтобы как-то выходить из домов, откапывали окна, бабы втыкали прямо в снег колья, натягивали веревки, развешивали стираное бельё. Все суетились, а мы, детвора, радовались, доставали санки, лыжи и целыми днями пропадали на улице, на морозе, и практически никогда не болели.
В пятнадцати километрах от деревни, в урочище Карагасай, стояла в лесу на краю запруды заимка. Там круглый год держали на откорме скот, неделями жили скотники, сторожа, повар. В тихую погоду скот выпускали на водопой к заранее приготовленным прорубям. И так из года в год, это называлось откорм.
Отец в то время был бригадиром откормочной фермы и, так сказать, по долгу службы почти ежедневно объезжал свои владения. Заимка в урочище Карагасай как раз была одной из ферм, которой заведовал мой отец. Если погода устанавливалась на несколько дней, то отец ездил на легкой кошевке по наезженной дороге. Если буранило, отец садился на своего разноглазого жеребца по кличке Веселый и ехал верхом, так было легче коню.
На этот раз буранило долго, все беспокоились, как там, на заимке, тем более уже заканчивались продукты, и как только немного успокоилось, отец сел верхом на своего любимца Веселого, взял с собой авоську с продуктами и под причитания бабушки Лизы с рассветом выехал на заимку. Пока ехал по деревне, казалось, что вроде погода ничего, от тела жеребца было тепло, тем более отец редко ездил в седле. Ветер слегка поддувал под полы полушубка, мороз был несильный. Так легкой рысцой Веселый без понукания бежал по заснеженной местами дороге, легко угадывая твердость накатанного наста. Ничто, казалось бы, не предвещало перемены погоды, но постепенно, с рассветом, полетели сначала редкие хлопья пушистого снега, затем снег начал лететь плотной стеной.
Отец заволновался: куда ехать, то ли вперед, то ли возвращаться? Он проехал уже сухую балку, а это как раз половина пути. Веселый всё также ходко шел по направлению к заимке, легко угадывая дорогу. «А, вперед, там люди ждут!» - решил отец. Так они прошагали ещё с километр, а вьюга становилась всё сильнее и сильнее, порывы ветра чуть ли не сбрасывали отца с лошади. Веселый сделал ещё несколько шагов и остановился. «Но, Весёлый!» - крикнул в пургу отец, но жеребец стоял на месте, прядя ушами и перебирая ногами, как бы пританцовывая. «Эй, дурачок, что там случилось?» - отец перекинул повод через голову лошади, спрыгнул в снег, погладил Веселого по щеке. Конь тревожно заржал, отступил на шаг. Отец посмотрел вперед: мама родная, ещё бы шаг и навеки ушли бы они с конем в тартарары. Веселый остановился на самом краю обрыва реки Карагасайки. «Спасибо тебе, милый», - сказал отец, обнял коня за шею, прижался к ней щекой. Веселый, как будто человек, понял, что его благодарят, махнув головой, снова заржал тихо, и отец, повернув коня, повел его подальше от этого страшного обрыва, у основания которого никогда не замерзал глубокий омут.
Отведя коня шагов на десять от обрыва, отец попытался взобраться на мокрую спину Веселого, но тяжелая, намокшая одежда и глубокий рыхлый снег не дали этого сделать и, угрузая почти по пояс в снегу, отец повел коня на поводу. Этот обрыв отец знал хорошо, он понял, что на заимку надо брать влево, по-над обрывом, до переезда через сухую речку, а там останется прошагать версты четыре. И так они пошли: человек впереди, а за ним лошадь. Снег стоял стеной, всадник и лошадь слились в один белый комок, ни им ничего не было видно, ни их никто не смог бы различить.
Прошагав так с полверсты, усталый конь остановился, тяжело двигая боками – устал. Отец подошел к коню, еле передвигая ноги в глубоком снегу, чертыхнулся: «Ну, что, браток, будем делать? Ты-то, может быть, и выберешься, а мне, наверное, тут и конец». Лошадь молчала, тяжело поводя боками. Отец взял коня за повод и опять тяжело, угрузая в рыхлом снегу, побрел, проклиная судьбу и погоду. Снег пробирался во все щели: и за воротник, и под полушубок, идти с каждым шагом становилось всё тяжелее. Устал и конь. Но и человек, и лошадь понимали, что если один из них сдастся, то и другой может навеки остаться под глубоким покровом снега. И они шли. Сколько прошло времени, отец не знал, а по солнцу определить было невозможно: плотная стена снега застила всё небо.
Неожиданно ветер стих, отец поднял голову и увидел: впереди стоял густой смешанный сосново-березовый лес. Он знал хорошо эти места и понял, что до заимки ещё шагать версты три, но сил уже не было, да и заметно стало темнеть: зимние дни коротки. Снег в лесу был совсем рыхлый. Бредя по пояс в снегу, отец добрался до густого сосняка. Здесь было тихо, только верхушки высоких сосен гудели да хлопья мягкого снега летели сверху, припорашивая только что оставленные следы.
Привязав Веселого к дереву, отец вытащил нож, стал резать сосновые лапы. С подветренной стороны толстой разлапистой сосны вытоптал снег, соорудил шалаш, обсыпал его снегом, утрамбовал, внутрь набросал сосновых лап, наломал сухих веток для костра. Забросил сумку с едой в шалаш, подошел к лошади: «Что будем делать, а, Весёлый? Ты проголодался?». Конь всхрапнул, словно соглашаясь с хозяином. Отец вытащил сумку, отломил большой ломоть хлеба, посыпал солью и стал по кусочку скармливать коню. Тот с таким удовольствием облизывал губы, что и хозяин почувствовал, что проголодался. Скормив полбуханки хлеба Веселому, похлопав коня по холке, отец с сожалением положил остаток хлеба за пазуху и полез в шалаш.
В шалаше было темно, тихо, снег уже успел припорошить сосновые лапы. Войдя в шалаш, отец изнутри закрыл вход заранее приготовленными ветками, удобно устроился, достал кисет, кусочек газетки, свернул цигарку, закурил. Махорочный дымок приятно щекотал ноздри. Ничего, не пропадем, бураны тоже когда-нибудь кончаются. Достал сумку, налил полкружки самогона, выпил с удовольствием, закусил хлебом с салом и луковицей. Костер разжигать не стал. Удобно устроился и, то ли от усталости, то ли от выпитого крепкого самогона, быстро уснул. В шалаше было тепло и уютно. Конь тоже вытоптал себе место и, тяжело вздыхая, лег. Наверное, он тоже своим конским умом о чем-то размышлял в эту ненастную, вьюжную ночь.
Сколько проспал отец, он не понимал, но проснулся от какого-то приглушенного стона. Первая мысль была: волки, они напугали Весёлого. Что делать? Ни ружья, ни топора. Холодный пот пробежал по спине отца, он лихорадочно соображал, что делать. А возле шалаша скрипел снег, слышны были шаги и какой-то жалобный, приглушенный стон. Страх сковал рассудок человека. Отец хотел как бы сжаться, раствориться в лапах сосняка. Но он быстро пришел в себя. Костер! Сухие ветки были в шалаше, отец быстро собрал их в кучу, зажег кусок газеты, и мелкие сухие ветки, весело затрещав, загорелись, ярко освещая шалаш. Дым стал застилать глаза, отец привстал в шалаше, проделал отверстие над костром, тот заполыхал еще веселее. Ветки надо было экономить. Костерок был небольшой, но отец согревался не столько его теплом, сколько сознанием того, что огня боятся дикие звери, в том числе и волки.
Ветер в чаще леса совсем стих, была тихая, лунная ночь. Отец раздвинул вход в шалаш и осторожно выглянул. Шалаш до половины был занесен снегом и казался каким-то родным, уютным и одиноким пристанищем в этом заснеженном подлунном мире. Веселый стоял, по-прежнему привязанный к сосне, перебирая ногами. Явно он был чем-то напуган. Взяв в руки нож, отец осторожно выбрался наружу, огляделся вокруг, ничего не увидел, но когда он заглянул за обратную сторону шалаша, то от неожиданности и испуга даже присел. Но это на мгновение. В снегу за шалашом лежал маленький олененок. Луна ярко освещала прогалину в сосняке, олененок смотрел на человека детскими испуганными глазами, дрожал всем тельцем, старался приподняться на ослабших ножках, но у него ничего не получалось. Ах ты, малыш, как ты сюда попал? Где твоя мамка? Они, маленький звереныш и человек, могучий повелитель природы, смотрели друг другу в глаза и как будто мысленно переговаривались, понимая друг друга.
Отец боялся спугнуть малыша, осторожно подошел к олененку, погладил. Тот еще сильнее задрожал, затем лизнул руку отца, и отец подошел еще ближе, подсунул руку под тельце животного, обхватил его другой рукой, приподнял. Олененок привстал, передняя левая ножка висела, и даже в сумерках было видно, что она внизу распухла. Отец осторожно втащил олененка в шалаш, подбросил сухих веток в костерок, положил на правый бок, нашел остаток хлеба поднес кусочек к губам. Олененок сначала фыркнул, затем, лизнув корочку, осторожно взял ее влажными губами и с удовольствием стал жевать. Когда он проглотил корочку, потянулся к руке человека, словно прося еще. Видно, проголодался. Надо было ехать, пока погода не испортилась снова.
Была полночь. Тихая, морозная, лунная. Куда же олененка девать? Осмотрев ногу, отец понял, что она не переломлена, а просто вывихнута. Ну, потерпи, милок, сейчас поправим. Он прижал тельце олененка своим грузным в одежде телом, поудобнее, взял ножку возле копытца, пошевелил, затем резко дернул. Хрустнув, сустав встал на место. Олененок застонал, задергался, отец подержал его ещё с полминуты, затем отпустил. Олененок попытался встать. «Лежи, лежи, рано тебе ещё», - сказал отец и снова стал давать ему корочки хлеба. Тот успокоился и с удовольствием уплетал никогда ранее не виданное лакомство.
Отец закурил, достал сумку с продуктами, ещё раз перекусил и решил, что пора ехать на заимку. Затушил костерок, приподнял олененка. Тот уже стоял на всех четырех ножках, слегка приподняв ещё не совсем зажившую. Отец вытолкнул его из шалаша. Олененок словно не хотел выходить из тепла, но все же вышел, посмотрел по сторонам, как-то весело заблеял. Шагах в двадцати стояли два красавца оленя: это были родители маленького звереныша. Увидев свою мамку, олененок весело подпрыгнул на месте, наверное, от радости, затем, слегка прихрамывая, потрусил к взрослым оленям. Они постояли с минуту, повернулись и медленно пошли в заросли сосняка. Отец усмехнулся, у него было такое прекрасное настроение, и он тогда явно понял, что все мы – одно целое в этом сложном мире.
Весёлый стоял, перебирая нетерпеливо ногами: он ждал, когда хозяин погладит его, угостит корочкой хлеба, и они снова двинутся в путь. Отвязав коня, отец еле взобрался на него, снег был рыхлый, глубокий. Шалаш, как родной дом, одиноко стоял, занесенный снегом, возле могучей сосны. Угрузая по брюхо в снегу, они наконец-то выбрались на дорогу и двинулись в сторону заимки.
Ночь была лунная, позади осталась чёрная стена дремучего леса.
ВОЛКИ
Заимка, что находилась в урочище Карагасай, была расположена на берегу Сухой речки. Весной эта речка бурлила от талых вод, а летом почти полностью пересыхала и зарастала разным кустарником так, что в некоторых местах перейти на противоположный берег было невозможно. В самом широком месте речку запрудили, и получилась довольно большая и глубокая запруда, в ней зимой и летом поили скот, который здесь оставляли на зиму для откорма. Всё лето заготавливали сено, солому и таким образом зимой скот кормили этими запасами.
Скотники работали вахтовым методом – менялись через месяц. Место было очень красивое: со всех сторон заимку окружал берёзовый лес, местами заболоченный и заросший густой порослью; в двух километрах на север лес перемежался большими полянами, на которых летом косили сено и пасли скот.
Ферма представляла собой два параллельно стоящих помещения для скота, соединенных между собой крытым переходом, то есть буквой Н, что было особенно удобно в зимнее время. В торце одного из помещений стоял дом для жилья и отдыха животноводов, он был деревянный, теплый. На откорм оставляли молодняк, иногда бывал и падеж. Павших животных увозили на скотомогильник как можно дальше от заимки, чтобы падалью не привлекать диких зверей, особенно волков. А их в то время развелось столько, что они истребили почти всё живое, и от голода иногда заходили даже в поселок, особенно в крайние дома. Рвали и ели собак, кошек, а иногда через соломенную крышу забирались в хлев к скоту. Учует волк запах овец, разгребет солому на крыше, запрыгнет в овчарню, перережет всех овец, а выбраться наружу не может. Утром озлобленные хозяева таких волков запарывали вилами или до смерти забивали кольями: ружья в то время были редко у кого.
Люди по одиночке боялись выехать по своим делам за околицу села. Бывали случаи, когда волки задирали лошадей или даже человека. Поэтому, когда надо было ехать за сеном или по другим делам, собиралось несколько подвод и таким образом доставляли корма. Волки близко подходить боялись и держались всё время на расстоянии.
Почему так много развелось волков? Это вполне объяснимо. В центре и на западе страны шла сначала гражданская война, а потом Отечественная, передвигалась большая масса людей, повсюду гремела канонада, поэтому волки уходили все дальше и дальше на восток: здесь дичи было много, а населения, наоборот, мало, никто не стрелял. Волки чувствовали себя вольготно и сыто, пока их не развелось столько, что они истребили всю дичь и стали нападать на домашний скот, а иногда и на людей.
Насколько эти звери умны, убедился знаменитый охотник-волчатник Труш. Он их перестрелял за свою жизнь не один десяток, знал их повадки досконально, но и к нему они приспособились: как только Труш выходил на охоту, волки, словно сговариваясь, где-то исчезали. Что он только ни делал: и одежду кипятил вместе с капканами и другим охотничьим снаряжением в хвойном растворе, и надевал зимой белый халат, всё без толку. Волки в его капканы попадаться перестали, хотя другие охотники ловили их и стреляли. Труш даже вынужден был прекратить охоту на волков года на три, пока не подрос волчий молодняк и постепенно не вымерло старшее волчье поколение.
Однажды отец рассказал такой случай. Как-то зимой он, проверив свои владения, заночевал на заимке в урочище Карагасай. Оба – и конь, и человек – хорошо отдохнули, поели, и по раннему утру отец решил ехать домой. Весёлый уже перебирал копытами, предвкушая быструю прогулку на спине с седоком. Отец зимой никогда не ездил на лошади в седле, в лучшем случае подстелет какую-нибудь рогожку, потому что так было теплее и седоку, и лошади. Единственная проблема была зимой: если уж слез с коня, забраться на него в теплой зимней одежде было нелегко.
На востоке уже слегка забрезжил рассвет, под ногами блестел искристый, за ночь нападавший легкий снежок, было тихо и спокойно. Но, Весёлый! И конь, почувствовав под ногами твердый, утоптанный наст, легко затрусил в сторону деревни. Не успели они отъехать и полутора верст, как конь тревожно заржал, запрядал ушами и начал всхрапывать, всё ускоряя бег. Отец догадался, что Веселый учуял что-то не ладное. Вглядевшись во все еще темный лес по сторонам дороги, он заметил мерцающие огоньки. Сразу стало ясно: это волки.
У отца по спине поползли мурашки. Назад отступать было нельзя, потому что звери шли по следу. Откуда они? В этих местах обычно волки не появлялись, потому что голодными они не были: недалеко скотомогильник, и зимой там всегда пировали и лисы, и волки, и разные птицы-падальщики. Значит, это пришлые, а они были голодными и опасными. Отец пришпорил коня, он решил побыстрее доскакать до полевого стана тракторной бригады. Там стоял деревянный вагончик, и в нем часто оставались дрова на всякий случай, вокруг стоял оставленный на зиму сельхозинвентарь, а рядом лежала большая куча соломы, которую можно было поджечь и отпугнуть волков.
Конь каким-то чутьем понял замысел седока и галопом понесся к полевому стану. Отец оглянулся и увидел: волки с двух сторон стали обходить Весёлого, но тот без понукания несся, как пуля. Они всего на мгновение опередили волков, когда подъехали к вагончику. Конь тяжело дышал, храпел, не стоял на месте. Отец схватился за верхний край двери вагончика, рванул ее на себя, и дверь, слетев с петель, бухнулась рядом, в снег. Отец соскочил с коня, запрыгнул в вагончик и резко потянул за собой Веселого. Тот, не сопротивляясь, впрыгнул внутрь. Волки, клацая зубами и злобно рыча, низко приседая на задние лапы носились рядом со входом. Веселый продолжал храпеть, а отец стал стучать совком по буржуйке, потом он трясущимися руками поджег сухую березовую кору, поднес ее к дровам, сложенным в буржуйке и они, весело потрескивая, загорелись. Теперь отец знал точно, что беда пока миновала. А наглые волки уселись полукругом недалеко от входа и, по-прежнему клацая зубами, рычали.
Конь немного успокоился, хотя продолжал дрожать мелкой дрожью. Когда дрова разгорелись, отец вытащил горящее полено и с силой запустил его в ближайшего зверя. Тот, оскалившись, увернулся и пересел на другое место. Что же делать? Сколько они будут сидеть? Но тут солнце окончательно вышло из-за горизонта, стало светло и не так страшно. Звери сидели наружи, а человек и лошадь – в вагончике и ждали, кто кого пересилит. Потом неожиданно вся стая вскочила на ноги, огляделась по сторонам и побежала в сторону леса. Отец выглянул наружу: волки были уже на косогоре, метрах в трехстах и бежали дальше, наверное, кого-то высмотрели. Отец еще некоторое время подождал, пока волки совсем не исчезли из поля зрения. Тогда он осторожно вывел Весёлого из вагончика, навесил дверь на место, прикрыл ее, сел на коня, и они быстро поскакали в сторону деревни. Веселый бежал как никогда резво и без понукания.
А мама рассказывала, как, будучи еще молоденькой девчонкой, помогала старшей сестре на молочной ферме. На работу они ходили рано, и тут однажды бригадир попросил ее отвезти на склад мясо прирезанной коровы. Запрягли лошадь, сложили мясо на сани, и мама поехала с фермы к поселку. Было еще темно и морозно. Вдруг мама увидела, как сани догоняет большая серая собака. Она даже не подумала, что это волк. А тот догнал, схватил полтуши мощными клыками и стал стягивать ее с саней, а мама, наоборот, тянула мясо к себе. Тут напуганный конь резко рванул и рысью помчался в поселок, а мама выпустила тушу из рук, и та упала прямо на дорогу. «Собака» отстала.
На склад мама привезла только полтуши. «А где остальное?» - спросил завскладом. Мама сказала, что остальное стащила какая-то собака по дороге. Завскладом догадался, что это за «собака», вскочил на коня и поехал в ту сторону, за ним увязалось по дороге еще несколько мужиков. Когда они подъехали, то увидели, что от полтуши мяса остался один скелет, а волки сидели неподалеку и, как ни в чем ни бывало, клацали зубами. Они чуяли, что ружей у мужиков не было, и вели себя нагло.
Русские мужики не умели так охотиться на волков, как на них охотились казахи. У них тоже ружей не было, но у них были хорошие верховые кони, очень выносливые и резвые, и они свободно могли догнать волка. А вместо ружья у них была длинная заостренная с одного конца палка, она называлась сойыл. Всадник догонял на своей резвой лошади волка и острым концом сойыла буквально пронзал его чуть ли не насквозь. Но таких охотников было немного, и всех волков они уничтожить не могли.
А потом начали осваивать целину, нагнали много техники, распахали все свободные клочки земли, у людей стали появляться охотничьи ружья и постепенно, лет за десять-пятнадцать, почти всех волков истребили. Хотя и сейчас нет-нет да кто-нибудь увидит вдали от населенных пунктов волчьи следы. Но они стали очень осторожны, и редко кому-либо теперь удаётся добыть волка.
Зоологи говорят, что это одни из самых умных и выносливых хищников на земле. Я думаю, что они правы.
КАПИТОН УРЮПИН (КРОВОПИЙЦА)
Этот тщедушный, небольшого роста человек, если такое чудовище можно назвать человеком, жил в Константиновке, работал бригадиром, а бригадир в то время на селе был бог, царь и государь. Старики до сих пор с содроганием вспоминают этого безжалостного, без чувства сострадания человека.
В колхозе люди работали много, от зари до заката находились в поле, на току, на ферме, им некогда было присмотреть за собственными детьми, управиться по хозяйству, посадить огород. Работа тогда была вся ручная, женщины таскали ящики-носилки с зерном по 80-100 килограммов весом вверх по трапу в бункер-накопитель, а другие женщины крутили вручную веялку и таким образом сортировали зерно. Или целый день на жаре грузили сено на повозки, отвозили на сеновал, там разгружали, складывали в скирды. Питались очень скудно. Своим подсобным хозяйством заниматься было некогда, хорошо, если у кого были старики, так они хоть присматривали за детьми, за хозяйством. А у кого не было? Стоит только не прополоть-окучить картошку, и всё – урожая не жди. Не заготовил каких-нибудь ягод, грибов – тоже будешь сидеть зимой, как говорили, лапу сосать.
Уйти самовольно с работы было нельзя: срежут трудодни. Но жить-то как-то надо было, и женщины шли на всякие ухищрения, чтобы как-нибудь увильнуть с работы. Клубника, вишня поспевают, грибы пошли. Так вот, бывало, соберутся несколько женщин и затемно идут за 8-10 верст в лес за ягодами или грибами. Затемно, потому что нужно было незаметно выйти из села, чтобы Капитон Урюпин, или как его звали «кровопивец» не увидел, иначе добра не жди. И бывало, что Капитон догонял женщин на лошади, уже километрах в пяти от села, доставал свой кнут и хлестал, не разбирая мест, гнал женщин обратно, всю дорогу матерясь, обзывая последними словами. Иногда женщины прибегали домой все избитые, в порванной одежде. Было и такое, когда он поджидал возвращавшихся поздно вечером женщин с полными корзинами где-нибудь возле околицы села, догонял, нещадно хлестал, а они в панике бежали куда глаза глядят, бросая на ходу свои авоськи с собранными за целый день ягодами. Один мужчина попытался было защитить свою жену, выхватил кнут у Капитона, замахнулся на него, даже не ударил, но в скорости его забрали, посадили на три года в тюрьму, чтобы другим было не повадно. Капитон ведь был член партии, а режим был сталинский, вот все и боялись.
Женщина и её дети не имели право болеть, упаси Бог она не вышла на работу. Капитон Урюпин приедет домой и поднимет ее, полумертвую, с постели, заставит идти в поле или на ток. Семьи были многодетные, голодали, но не приведи Господь, чтобы кто-нибудь подобрал хоть один колосок с уже убранного поля: могли посадить, поэтому лучше пусть сгниет. Были и другие бригадиры в колхозе, но они хоть как-то жалели людей, а этот кровопийца жалости совсем не знал. Была у нас такая женщина, многодетная, без мужа, Фроленчиха. Так она говорила: «Сдохнет кровопивец – пойду на могилку и оправлюсь».
Я не могу представить, о чем этот человек думал, когда оставался наедине с собой? Мало кто знал, как звали его жену. Звали просто Капитониха, а имя ее вроде было Люба. Это была абсолютно забитая, бесправная, серая, как мышка, женщина. И пусть бы этот кровопивец был из богатого кулацкого рода, тогда хоть как-то можно было бы понять его лютость и ненависть, но ведь он был из захудалого рода безземельных бездельников. Почему же он так вымещал зло на своих односельчанах? Дорвётся такой человек до власти и изгаляется над другими, зная о своей безнаказанности. У них с Капитонихой был сын, но он, наверное, из-за проклятий односельчан, как только подрос, уехал от стыда за своего отца неизвестно куда, и больше его никто никогда не видел, хотя он-то в чем виноват. Честно говоря, я столько наслушался об этом кровопийце, что мог бы много написать, но мне даже бумаги жалко, не стоит он этого.
Наконец Капитон в расцвете сил умер, народ вздохнул с облегчением. По христианскому обычаю покойника надо обмыть, но никто не согласился, люди отказались даже могилу копать, гроб делать, пришлось председателю колхоза нанимать посторонних. На похороны Капитона никто не пришел. Его закопали, как собаку. И долго ещё, когда люди приходили на кладбище на родительский день или на Троицу, могилку кровопийцы обходили стороной, плевали в её сторону. Даже жена Капитона стеснялась при людях посещать могилу мужа. Потом, через некоторое время, кто-то выбросил крест за ограду кладбища, хотя, в сущности своей, народ у нас незлобливый, не злопамятный, но это ж надо так насолить людям, что и через много лет они не могут забыть и до сих пор вспоминают о тебе с содроганием.
Сейчас уже никто не найдет его могилу, заросла она травой, только память человеческая передаётся из поколения в поколение, и нет-нет, да кто-нибудь вспомнит Капитона-кровопийцу недобрым словом. Наверное, Богу угодно, чтобы и такие люди жили на земле, но, к счастью, он их рано забирает к себе. Пусть земля ему будет...
СЕМЕН НИКИТИЧ
Семён Алёшкин вообще был интересным человеком: среднего роста, бас, как у Левитана, нос крючковатый, а левый глаз стеклянный. Это еще когда-то в юности глаз ему выбило зарядом пороха, когда он с другом разбирал ружейный патрон.
Семен любил выпить, часто, напившись, терял свой знаменитый стеклянный глаз, потом жена его Евдокия долго искала эту стекляшку, исследуя места, где накануне поддавал ее муженек, это при условии, что никто его не раздавил случайно. Бывали и такие случаи, когда лучший друг, тоже Семен, Якубовский, успокаивал Семёна Алешкина и делал ему новый глаз из бутылочного стекла: если на трезвую голову, то получалось еще ничего, ну а по пьянке так разрисует, что глаз походил на глаз разъяренного быка, которого ведут на бойню. Даже бабки крестились, увидев Семена с новым глазом. А мой отец подшучивал над ним, говорил: «Сёмка, ты когда идешь в гости, глаз оставляй дома в стакане с водой, а то всё равно потеряешь». На это Семен реагировал отборным матом.
Семья Алешкиных раньше была зажиточной, да и Евдокия, тетя Дуня, как мы её
Называли, тоже была из богатой семьи Бондаревых. У Семена с Евдокией было двое детей, сын и дочь. Сын так же, как отец, «не любил» выпить. Один раз даже залез в дежурный магазин за водкой, его на утро тут же, рядом с магазином, спящего, взял участковый. Не знаю, сколько он там утащил бутылок, не думаю, что много, но списали на него всю недостачу, и Анатолий на три года загремел в каталажку.
Я помню дом Алешкиных, весь засаженный деревьями, а впереди дома стоял станок для скручивания веревок. Алешкины одни-единственные в деревне делали верёвки из льна и конопли, были, так сказать, монополистами. Помню я и деда Никиту, отца Семена. Небольшого роста, коренастый старик, с густой, прокуренной бородой. Нам, пацанам, казалось, что он глухонемой, потому что никто из нас никогда не слышал, как он разговаривает.
У Алёшкиных водились самые красивые голуби в округе. Иногда, выбрав момент, когда дед Никита оставался один дома, мы приходили к ним в усадьбу, зная, что дед Никита сидит на толстом чурбаке, курит самосад. Это у него такой ритуал был: управится по хозяйству и сидит на пеньке во дворе, без головного убора, неважно, зима это или лето. Мы робко заходили в сарай, там привязанный на цепи злой пес Полкан разрывался от лая, а дед Никита сидит на своем пеньке и ухом не ведет. «Дед Никита, можно мы несколько штук голубей поймаем?». Он медленно повернет голову, даже бровью не пошевелит, как всегда ни слова не проронив, потому что слова у него на вес золота. А для нас это знак, и мы лезем в голубиные гнезда, берем молодняк, пары по две на брата, и молча уходим со двора. А дед Никита как сидел, так и сидит, как будто прирос к своему пеньку, даже прокуренной бородой не пошевелит. А борода у него знатная, лопатой, и желтая от махорки.
Однажды Семен рассказал, как дед Никита разговорился. А дело было так. Раньше на подводах возили в город зерно, мясо, шкуры, продукты, разные товары; зимой – по зимнику на санях, летом – по наезженной полевой дороге. И вот дед Никита вместе с Семёном сдали зерно в приемный пункт, передохнули и по санному пути направились в сторону своей деревни, а расстояние для лошадей немалое, около сотни километров. Только отъехали они от города как их нагнали двое верховых, и один из них крикнул: «Эй, дед, вы откуда едете?» Дед, как на грех ответил: «Из городу». «Ну и хрен тебе в бороду» - прокричал парень, хлесть коня плеткой и был таков. Семен говорит, всю дорогу смеялся, закрывшись воротником тулупа, чтобы отец не видел, а тот весь остаток пути матерился и приговаривал: «Вот подлецы, а, вот подлецы, сволочи, засранцы». Наверное, его возмущению не было предела, раз он так разговорился. Семен, сам уже будучи стариком, рассказывал эту историю и смеялся. Говорит: «Первый раз сам услышал, как отец разговаривает».
А однажды с Семеном произошел такой случай. Как раз были ноябрьские праздники, Евдокия на три дня уехала к дочери в город, а Семен с Анатолием остались дома одни. Ну что, взяли бутылку водки, выпили в честь праздника, показалось мало, а денег на другую нет. Что делать? И тут Семен вспомнил: «Слышь, Толькь, мать где-то бражку заводила, недели две назад, она куда-то еë спрятала, поди, уже готова?». Давай они с Анатолием искать флягу с брагой: весь дом перерыли, и на чердаке, и в сеновале, и в кладовке. Ну нигде нет! Тогда Семён говорит: «Может, в подвале, в картошке, а ну-ка, Толькь, слазь». Тот полез, раскопал картошку, точно – фляга с брагой там. Недолго думая, набирают полное эмалированное ведро бражки, а туда ведро холодной воды из колодца, чтобы тетя Дуся не заметила потом. Всё, как было, замаскировали и начали гужевать.
Но они не предусмотрели, что праздников-то три дня, а браги набрали всего ведро. Бражка, конечно, была крепкая, но за день отец с сыном ведро опустошили, а на утро проснулись с чугунными головами, а опохмелиться нечем. «Эх, дураки мы, дураки, - сказал Семен, - надо было два ведра набирать! Что теперь делать? Толькь, а ну, давай, лезь, еще наберем». Анатолий послушно полез, у него тоже башка трещала. Ну, в общем, набрали они ещё ведро браги, туда снова ведро сырой воды, так же замаскировали, и давай пить. Не успели они выпить по третьей кружке, как у Семена забурлило в животе. «Ой, Толькь, наверно я сейчас обсерусь», - и бегом в сарай. Только он пошел обратно в дом, как навстречу ему сломя голову пронесся Анатолий, на ходу расстегивая ширинку. В общем, их прохватила такая дрисня, что к вечеру они уже лежали пластом. Чем только они не пробовали заглушить свой недуг – ничего не помогало.
А на утро вернулась из города Евдокия. Смотрит: лежат еë домочадцы пластом, аж пожелтели. «Да что это с вами, чего вы нажрались?» - спрашивает. Но они молчали, предчувствуя надвигающуюся беду. Тетя Дуся отхаживала их два дня. Кое-как они, поднявшись, первое что попросили, так это выпить: «Дуся, дай что-нибудь покрепче, мы же, считай, с того света вернулись. Если бы не ты, точно бы умерли». И Семен пустил скупую слезу из своего единственного глаза. «Ладно, - сжалилась Евдокия, - идите управьтесь по хозяйству, а я что-нибудь найду». Они покорно пошли в сарай, кое-как почистили в хлеву, накормили скотину и возвратились в дом, а там на столе стоит ковш с бражкой. «Ладно, пейте, а то ещё помрете». Они как увидели брагу, сразу в один голос заголосили: « Не надо, не надо брагу, нам плохо будет».
«Ага, когда это вам плохо было от бражки, алкаши несчастные?»
А потом Евдокия, по-видимому, смекнула, что что-то тут не так, чтобы эти двое отказались от бражки, да они гущу иногда ели. А ну-ка, ну-ка, она отхлебнула прямо из ковша, выплюнула на пол, глаза ее налились кровью, а Семен с Анатолием втянули больные головы в плечи, Боже, что сейчас будет! Евдокия схватила ковш, плеснула Анатолию прямо в лицо, а Семену со всей силы влепила пустым ковшом звонкую оплеуху, да так, что стеклянный глаз вылетел. «Ах, вы растудыт твою мать, я приготовила бражку, хотела выгнать самогону к Новому году, а вы сволочи, пьянчужки поносные, чтоб у вас руки отсохли, чтоб вам рот скривило!»
И еще она долго бушевала и причитала. Но Семен хорошо знал свою жену, еще немного поорет и перестанет. Так оно и случилось, постепенно Евдокия успокоилась. «Садитесь жрать, дармоеды». Они покорно сели за стол и начали хлебать борщ, всухую, тихие и смиренные, как никогда. А тетя Дуся радовалась аж три дня, что в доме мир и порядок. А на четвёртый.....
ДЕТИ
Наконец-то наступила весна. Всё ожило, весело переливаясь, журчали прозрачные ручейки; невидимые, в небе пели жаворонки. Солнце светило ярко, на склонах невысоких холмов с южной стороны появилась первая зелень. Там уже степенно паслись коровы, овцы, а ягнята, как дети, носились рядом с мамками, подпрыгивали, кувыркались, весело блеяли.
В проснувшемся ауле дети с утра до ночи гоняли самодельный, скатанный из шерсти мяч, играли в асыки, одним словом, после зимней спячки вместе с природой зашевелилось всё живое вокруг.
Семилетний Кайрат, чернявый, шустрый мальчонка, сын главы рода Кульсарина вместе со сверстниками целый день играл в нехитрые аульные детские игры. Но ему надоело играть в одно и то же. И однажды он решил узнать, куда убегает этот шустрый ручеек. Бабушка говорила, что все маленькие ручейки стекаются в одну большую реку, а река эта входит в большую-большую воду, которой конца-краю нет, и даже птицы не могут долететь до противоположного берега, не отдохнув в пути. Эта большая вода называется море.
Маленький Кайрат думал, что вот там, за сопками, и есть та река, а за ней и большая вода – море. Мальчуган медленно побрел вдоль ручья, а тот, изгибаясь и журча на перекатах, уходил всё дальше и дальше. Потом Кайрат бросил в ручей сухую корку коровьего помета, она весело закружилась и понеслась, увлекаемая прозрачной водой. Ручей уходил вниз под горку, в него уже впадали более мелкие ручейки, а его, Кайрата, ручей становился все шире, глубже и стремительнее. Кайрат гордился этим, до его детского сознания четко дошло, что вот так и появляются большие реки. Ещё немного пробегу, вон за тот холм, решил Кайрат, а там может и река появится.
Весело насвистывая, мальчуган уходил все дальше и дальше от аула. Он не заметил, что диск солнца уже коснулся горизонта. А южные ночи наступают очень быстро. Казалось бы, только что солнце висело на горизонте, оглянулся, а его уже нет, наступили сумерки. Кайрат с сожалением посмотрел на ручей: «Ладно, в следующий раз мы с тобой доберемся до реки, а сейчас беги сам». Мальчик оглянулся назад: аула уже видно не было.
Очень быстро сгущались сумерки. Он пошел вдоль ручья назад, было очень тихо, слышно было только журчание ручейка. Пройдя шагов двести, мальчик наткнулся еще на один ручей, он его перешагнул, затем появился еще один, и тут Кайрат задумался: «А где же мой ручей?» В темноте все они были одинаковыми. «Наверное, вот этот»,- подумал Кайрат и весело пошел вдоль него. Стало совсем темно, резко потянул холодный воздух, мальчик испугался, он понял, что заблудился. Было холодно, он весь продрог, шел, уже не разбирая дороги, иногда пересекая мелководные ручьи, промочил ноги.
И тут Кайрат заплакал, плакал тихо, размазывая слезы кулаками. Потом на пути оказался большой валун, он чернел в звездной ночи, казался огромным лежащим чудищем. Кайрат подошел к валуну с подветренной стороны, укрылся от ветра, камень уже успел остыть. Ребенок сидел на корточках за камнем и горько плакал. Он не знал, куда идти, что с ним будет. Страха не было, был леденящий душу маленького человечка холод, он ничего уже не хотел, хотел только к бабушке в тепло.
Так он сидел и лил горькие слёзы. Вдруг он услышал в тишине как будто шаги. Наверное, показалось, подумал мальчик. От страха он затаил дыхание, прислушался: точно, кто-то медленно подходил туда, где затаился он, Кайрат. Теперь уже не холод, а жуткий страх сковал маленького Кайрата. Он весь сжался, вобрал голову в плечи, приготовился к смерти. Шаги приблизились в плотную. Кайрат уловил теплое дыхание на своей шее, затем что-то влажное, теплое капнуло ему на шею и потекло за воротником рубашки по спине. Преодолевая страх, он медленно поднял голову: рядом стоял тай, маленький жеребенок, от него пахло конским потом, молоком, он весь дрожал мелкой дрожью. Кайрат обнял голову жеребенка руками, прижал её к себе и слезы сами собой потекли из глаз. Но это уже были слезы радости. Рядом был такой же ребенок, как и сам Кайрат. Наверное, тоже отбился от мамки и заблудился. Мальчик гладил теплое тельце и понял, что жеребёнок тоже плачет, потому что глаза у него были влажные. Для Кайрата сейчас роднее существа не было. И так они, согревая друг друга, пошли, и им вдвоем уже совсем не было страшно.
Через некоторое время Кайрат услышал лай собак, потянуло дымком от кизяка, значит, рядом был аул. Пройдя еще несколько шагов, он услышал шум голосов, топот копыт, зычный голос отца. Это бабушка, обеспокоенная отсутствием Кайрата, подняла на ноги весь аул. Верховые с собаками собрались уже ехать в степь, искать мальчика. Как кто-то закричал: «Кульсарин, Кульсарин, вон твой джигит пришел, смотри! И скакуна привел». А Кайрат стоял рядом с замухрышкой-жеребенком и уже не боялся отцовской плётки, он нашел себе самого лучшего друга и теперь они долго-долго будут вместе.
НА РЫБАЛКЕ
Как-то один раз надумали мы с моим соседом и другом Сашкой поехать на рыбалку. Ну, что особенного, поехали и поехали. Но всё дело в том, что была уже середина ноября, и по утрам наша речка Бурлучка покрывалась тонким ледком, а в балках и лощинах уже лежал снежок. К холодам рыба собирается в глубокие места, в плёсы, вот мы и решили затянуть в таком месте бредень.
Собрались мы основательно: взяли бредень метров на десять, резиновые болотные сапоги, мешки под рыбу и, конечно, бутылку водки. Загрузили все в маленький газик и поехали на Уварово. Нашли хорошее место, разделись до майки и трусов, надели болотные сапоги, растянули бредень. Сашка пошел на ту сторону плёса, а я остался на этой. Края плёса были усыпаны небольшими валунами, а дно глинистое, скользкое.
Мы начали тянуть бредень, медленно продвигаясь по скользкому берегу, постоянно спотыкаясь и чертыхаясь, как вдруг Сашка поскользнулся и ушел по самое горло в ледяную воду. Ну, гад, ладно бы сам пошел, так он и меня потянул за собой. Не прошло и мгновения, как мы оба оказались чуть ли не до подбородка в воде. «Что будем делать?» - крикнул мне Сашка. «Как что, будем тянуть», - отвечаю. «Да ты с ума сошел?» - « Нет Санёк, давай тянуть, всё равно уже искупались».
И мы решили тянуть бредень дальше. Плес был шириной метров восемь и в длину тоже небольшой, не более пятнадцати метров. И мы стали подтягивать бредень к берегу. Сначала мы думали, что он зацепился за корягу, поднажали и кое-как вытащили мотню бредня на берег. Боже мой, я сколько живу, никогда не видел, чтобы за один раз из нашей речки можно было вытащить столько рыбы. Сетка бредня была мелкая, двухперстная, а рыбы в нее набилось разной, и крупной, и мелкой, столько, что наших двух мешков мало было, чтобы забрать её всю. Мелочь стала выпрыгивать через ячейки, а крупная вся оставалась в мотне. Здорово. Мы с Санькой забыли, что побывали в ледяной воде, но быстро опомнились, выскочили на берег и бегом к машине, на ходу снимая с себя одежду и сапоги.
В машине мы, прежде всего, переоделись в сухую одежду, потом налили по полному стакану водки, с удовольствием выпили, я включил двигатель, в машине стало тепло и уютно. Мы разлили остатки водки в стаканы, еще раз выпили. по телу разлилось приятное тепло и мы уже забыли, что всего полчаса назад побывали в ледяной воде.
Потом мы вдвоем кое-как вытряхнули рыбу из бредня, крупную собрали, а мелочь побросали в воду. Тогда мы поймали два мешка рыбы. Когда мы привезли рыбу домой, нам не поверили, сказали, что мы ее купили. А главное, побывав в ледяной воде, мы даже не простудились.
БАРКАС
После войны наш колхоз получил жеребца-производителя для улучшения конского стада. Жеребец был по какой-то причине списан из кавалерийской части. Я ещё в школу не ходил, но хорошо помню этого жеребца-красавца. Был он абсолютно белым, высоким, тонконогим, с маленькой умной головой на длинной шее. В колхозе в то время было много лошадей, но они были совсем другой породы, большие, сильные и очень выносливые, совсем не похожие на Баркаса.
Брат бабы Лизы, дядя Петя, как раз в то время работал заведующим конефермой, и мы, дети, часто ходили смотреть, как Баркаса выводят на прогулку. Несмотря на то, что он был обучен для верховой езды, садиться на него никому не дозволялось, даже заведующему фермой, так его берегли. Дядя Петя, бывало, выпустит его из стойла в конюшне, так он сразу на двор не выйдет, сначала осмотрится, поведет огненным глазом, потом ударит передним копытом и только тогда выйдет на прогулочный двор, где мирно жуют сено колхозные лошади. А мы прилипнем к изгороди и часами наблюдаем, как носится по двору белый жеребец Баркас. Для нас это было завораживающее зрелище. По загородке, подняв голову, распустив белую гриву, распушив хвост, высоко поднимая ноги, резвой иноходью не бегает, а плавает Баркас. Может, из-за сходства с настоящим баркасом и дали жеребцу такое имя.
Этого жеребца любили не только мы, пацаны, но и взрослые мужики. Они часто рассказывали друг другу, как Баркас огуливал местных кобылиц, смеялись. Мы еще не понимали, но знали точно, что нашего баркаса любят все. Мы, кто был поменьше, очень завидовали старшим ребятам, потому что некоторым из них дядя Петя доверял чистить жеребца скребком, а иногда даже купать теплой водой.
Так в колхозе у нас Баркас прожил семь лет, а потом неожиданно заболел: перестал жевать сено, даже к любимому лакомству всех коней на свете – овсу - перестал притрагиваться. Ветеринарный врач, покойный Гребенюк Александр, признал у Баркаса туберкулез легких, и от него необходимо было избавиться срочно, чтобы не заразить других лошадей. Легко сказать избавиться, а кто на него поднимет руку? Председатель пытался заставить кое-кого из мужиков пристрелить Баркаса, но никто не согласился. Тогда ему в конце конюшни пристроили специальное стойло, поместили его туда и бригадир никого к нему не подпускал, сам кормил, поил, ухаживал за ним. Но Баркас таял на глазах: из стройного, резвого покорителя кобыльих сердец он превращался в костлявого и немощного старика. Мы все же иногда проникали в конюшню к его стойлу, приносили с собой корочку хлеба с солью, которую он так любил когда-то, подносили прямо к его губам, но он вздыхал и медленно отворачивался, даже не притронувшись. Нам иногда казалось, что из глаз его текут слезы.
Никто еще не заглянул в душу животного. Может, он так же, как человек, вспоминает свою конскую жизнь, и что у него там на душе, никто никогда не узнает.
Баркас дожил до весны и умер. Увезли его на скотомогильник, но хоронить в общей яме не стали, а вырыли неподалеку на пригорке большую яму и там похоронили. А дядя Петя поставил на холмик деревянный крест и прибил табличку «Баркас, 1952 год».
Хотите верьте, хотите нет, но нам, ребятишкам, тогда казалось, что Баркас вовсе и не конь, а человек, он только говорить по человечески не мог. Мы потом часто ходили навестить Баркаса и клали на его могилку полевые цветы, которые росли рядом. Баркаса уже давно нет, но в колхозном стаде еще долго встречались белогривые красавцы, его потомки.
Сейчас совсем другая жизнь, мы все время куда-то спешим, у нас нет времени поговорить с детьми, рассказать им о своей жизни, о своих предках, как когда-то рассказывали нам. Поэтому я решил написать историю своего рода, хронологию событий с именами, фамилиями, о некоторых персонажах нашей родни и просто интересных односельчанах. Если будет интересно, может быть, наши дети когда-нибудь прочтут мои нехитрые воспоминания. Я не претендую на грамотный литературный стиль, пишу, как могу, для себя. Боюсь, что мы с братом – последние из нашего рода, кто может еще что-то вспомнить и написать. А может быть, кому-нибудь из потомков интересно станет, кто же он по происхождению, кем были его предки, откуда он родом, в конце концов, кто он по национальности. Я также попробую описать село, где мы родились и жили, окружающую нас природу, интересных людей и события, связанные с ними, тем более, что то место, где мы родились, сейчас находится в другом государстве, и теперь мы там бываем всё реже и реже, а щемящее чувство воспоминаний и ностальгии по родным краям всё чаще и чаще посещает нас. Возможно, кто-нибудь из потомков возьмет перо и допишет о нас, как я сейчас пишу о своих предках.
ОТКУДА ПОШЕЛ НАШ РОД?
К большому сожалению, мы, русские, мало, что знаем о своих предках. Если дворянское сословие знало всё о своей родословной и гордилось своей родовитостью, то простые люди, крестьяне, ремесленники часто не помнили даже своих дедов, прадедов. Хуже того, если до революции народ мало передвигался по стране, так и жили целыми кланами в одном месте столетиями, и много деревень носило название по имени основателя этого населенного пункта, и в этом селе, например, Рыжково или Константиново, так там и жили почти все Рыжковы или Константиновы. А начиная с реформ Столыпина, а особенно после революции, народ пошел во все стороны необъятной России, покидая веками насиженные места.
Вот так и наш род в 1898 году покинул родные Рязанские места и переселился на территорию современного Северного Казахстана, тогда это была Омская губерния, Кокчетавский уезд. Говорят, первыми переселенцами были выходцы из Украины, Полтавской губернии, затем уже приехали из Рязанской и Пензенской губерний. Так и селились: выходцы из Полтавской губернии строили улицу по-над бурливой в то время речкой и до сих пор эту улицу называют Полтавой. «Куда пошел?» - «На Полтаву», другая улица – Рязанская, там жили выходцы из Рязанской и Пензенской губерний. За речкой, которая стала впоследствии называться Бурлучкой, на правом её берегу, тянулся огромный сосновый бор Чумбай, вот из этого леса и был построен практически весь поселок. По тем временам это был огромный населенный пункт. Две улицы тянулись по-над речкой почти на три километра. В середине поселка быстро построили церковь, церковно-приходскую школу и базарные ряды. Село назвали, как говорят, по имени одного из выходцев из Полтавской губернии Константина, так до сих пор село и называется Константиновка.
Крестьян наделили земельными паями, кто побогаче получил и землю (свои десятины) поближе к деревне, а кто победнее, подальше, иногда и за 15 верст. И селились так же, целыми родами, кланами, кто побогаче – в центре села, и на солнечной стороне, кто беднее – за солнцем, как тогда называли. И строили дома тоже так же, первые строили деревянные пятистенки под тесовой крышей, а другие – глинобитные, крытые соломой литушки.
Как рассказывала бабушка моя Лизавета, бедные часто были многосемейными и в семье одни девки, а на них, как известно, земли не давали. У кого же были сыновья, тем, конечно, было легче: они и земли получали больше, и рабочая сила была.
Наш прадед Тимофей Ильич привёз свою семью из Михайловского уезда Рязанской губернии. Семья была, как и у большинства, большая: трое сыновей – Севостьян, Изот – это мой дед, и младший Илья, и три дочери – Мария, Прасковья и Клавдия. Прадед Тимофей Ильич построил со своими сыновьями большой деревянный дом почти в центре села, получил земельный надел на себя и на сыновей и зажили они своим единоличным хозяйством. Подрастали сыновья. Старший, Севостьян, женился, его надо было отделять – сообща построили дом, появились дети, замуж повыходили дочери, жили все рядом. Род Ляпиных разрастался. Мой дед женился на бабушке Елизавете в 1912 году, а в 1914 году родился мой отец, Василий. Деду так же построили дом, отделили, но земельный надел был по-прежнему общим, так было легче. Крутой характером Тимофей Ильич четко и умело руководил всем семейством, справедливо распределяя доходы от натурального хозяйства. Постепенно обзавелись сельхозинвентарем, скотом, ели досыта, жили неплохо, батраков не нанимали, хватало своей рабочей силы.
Село строилось, расширялось, население увеличивалось и наконец-то люди, не имевшие на своей исторической родине достаточно земли и жившие впроголодь, досыта наелись, зажили.
Лес, расположенный на правом берегу Бурлучки, постепенно редел, и сосняк уже к тридцатым годам полностью исчез, остались чахлые березки, и этот «лес» Чумбай сегодня представляет собой гектаров 40 чахлых, доживающих свой век берёзок.
Теперь самое время рассказать о моих дедушке и бабушке. Мой дед, как я уже говорил, был средним сыном Тимофея Ильича и Прасковьи Филлиповны, высокий, русоволосый красавец, драчун и забияка, ни одна драка или стенка на стенку не обходились без участия Зотки, бабушка рассказывала, что частенько Изотка ходил с синяками или с распухшим носом. В церковно-приходской школе учился хорошо, был способным, часто решал задачки богатым недорослям за сало или гривенник, а потом, когда вырос и остепенился, даже пел в церковном хоре. Наша бабушка Елизавета Осиповна происходит из не очень богатого рода Самохиных, тоже переселенцев из Рязанской губернии. Прадед по бабушкиной линии Иван Самохин тоже имел большую семью, сыновей и дочерей. Бабушкина мама вышла замуж за Родина Осипа, к сожалению, отчества не помню, но знаю, что у них было четверо сыновей: Степан, Петр, Павел, Александр, а также две дочери – это моя бабушка Елизавета и Анна, моложе бабы Лизы на 13 лет. Люди жили, растили детей, каждое воскресенье ходили в церковь.
Церковь была общей для полтавцев и для рязанцев. Но и только, упаси Бог, чтобы кто-нибудь из парней с Полтавской покажется на Рязанской или наоборот, обязательно побьют. И женились так же. Было позором, если рязанец женится на полтавке. «У, за хохла вышла». Всеобщее презрение. И наоборот. А рязанцев называли косопузыми, это потому, что большинство рязанцев были плотниками и носили топор за поясом, отчего тот оттягивал пояс набок, так до сих пор и зовут «рязанцы косопузые».
Все было хорошо, за 15 лет обустроились, нарожали детей, обработали свои наделы, но тут грянула первая мировая война 1914 года, и многие молодые мужчины ушли на фронт. Из рода Ляпиных ушел Севостьян и мой дед, а из Родиных – старший брат бабы Лизы Степан. Не буду рассказывать историю войны, о ней много написано, только скажу, что Севостьян вернулся в 1916 году, Степан пропал без вести, а мой дед Изот Тимофеевич попал в плен к Австрийцам и только в 1920 году сбежал из плена и вернулся на Родину. А тут вовсю шла гражданская война, не обошла она и наши края. В 1921 году у Изота Тимофеевича и Елизаветы Осиповны родилась дочь Мария. Моего деда призвали снова на службу в войска Колчака, а брат Севостьян стал помогать устанавливать советскую власть в своей деревне. В то время во многих семьях так было: брат против брата, сын против отца.
После поражения белой армии остатки Колчаковской армии разбежались кто куда, а мой дед вернулся в родное село Константиновку, но прожил он там недолго, потому что тут уже начали преследовать всех, кто воевал против Красной Армии, и дед мой вынужден был бежать на юг, в сторону Семиречья, это современная Алматинская область, в то время город Верный. Дед скитался, убегая от преследования органов ЧК, а баба Лиза воспитывала одна двоих детей. Сколько она пережила, один господь бог знает, и голод, и холод, и непосильный труд для маленькой, хрупкой женщины.
Несмотря на то, что прадед Тимофей Ильич числился в середняках, его семью раскулачили и выслали в Семиречье. В холодный ноябрьский день подводы с кое-каким скарбом двинулись на юг. Ехали долго, в пути от холода и недоедания многие умерли, и где их безвестные могилы, никто уже никогда не узнает. Так и наш прадед Тимофей Ильич умер где-то по дороге от простуды, похоронили его зимой кое-как, на скорую руку прямо в степи, недалеко от дороги, а обоз двинулся дальше, оставляя за собой печальные, безвестные холмики.
Выезжало раскулаченных человек 60, а прибыла в Семиречье едва ли половина из них. Особенно много умерло по дороге стариков и детей малых. А кто ждал переселенцев там, куда они ехали? Моим предкам еще повезло: они прибыли на место нового поселения в теплое время года, в начале апреля, местные жители уже отсеялись, а переселенцы не имели даже крыши над головой. И снова, как 30 лет назад, начали они устраиваться. А как? Там, в Кокчетавском уезде, кругом был лес, а тут, кроме верблюжьей колючки, никакого деревца. Вот и стали «строить» - рыть в земле яму примерно до пояса, а из пластов и вырытой земли складывать стены. А крышу делали из тальника, росшего по берегам речушек, обмазывали глиной, полы тоже были глиняные, мазаные, вместе с коровьим пометом.
Представить себе трудно, как народ выживал на голом месте. Даже семена, привезенные с собой, в условиях полупустынного, жаркого климата годились только на еду. Скот тоже не смог приспособиться и почти весь вымер. Только человек в таких нечеловеческих условиях выживал, да ещё и дети рождались. Надо отметить, что некоторые постройки служили жильем до восьмидесятых годов прошлого столетия.
Почему я так подробно описываю события тех давних лет? Потому что, хотя я сам не был участником тех событий, но много слышал об этом от бабушки, от родителей, пусть знают об этом и наши дети, дабы никогда больше такое не повторилось. Счастье ещё в том, что местное население, казахи, не относились враждебно к переселенцам, а наоборот, сами испытывая крайнюю нужду, помогали им всем, чем могли.
Вот так одна ветвь нашего рода оказалась в Семиречье. А брат моего деда, Севосьтьян Тимофеевич, со своей семьей остался в Константиновке, там же осталась с двумя детьми на руках моя бабушка. Старшие сестры моего деда повыходили замуж. Прасковья Тимофеевна – за Солодягина Ивана, Мария Тимофеевна – за Климкина Антона, младшая Клавдия – за Махновцева из села Куспек. Впоследствии он изменил свою фамилию, стал Коноваловым и уехал в Киргизию, там у них родились два сына, Михаил и Иван, о них я больше почти ничего не знаю.
В1929 году коллективизация дошла и до Константиновки. У людей забрали скот, инвентарь, семена. К власти, как известно, пришли бывшие голодранцы, бездельники и лодыри, и если они не умели дать ума своему маленькому хозяйству, то куда уж им было до этого, обобществленного? Почти весь скот за зиму пал от голода и холода, инвентарь растащили, семена съели, и, как и по всей стране, начался голодный мор. Сеять было нечего и нечем, люди ходили по деревням, просили кусок хлеба, дети и старики умирали от голода. Даже несмотря на то, что Севостьян Тимофеевич был в то время членом правления колхоза «Красный Полевод», его жена тоже ходила по деревням, побиралась, чтобы прокормить пятерых детей. И так однажды зимой еë нашли у окраины некогда зажиточного украинского села Раисовки, замерзшей в сугробе. Бабушка и мама рассказывали, как люди шли по домам, просили хоть крошку хлеба: «Подайте Христа ради». А что было подавать? У самих дети пухли от голода. Приходилось есть даже павших лошадей, семена сорной травы лебеды, сусликов. Люди ходили хмурые, с голодным, злым блеском в глазах, а погост за селом всё разрастался и разрастался, хоронили кое-как, особенно зимой, почти на поверхности. Не стоит дальше распространяться, об этом так же много написано, снято разных фильмов, а тем, кто довел народ до такого состояния, гореть вечно в аду.
Голод продолжался до 1933 года, а потом постепенно жизнь стала налаживаться: заработали колхозы и, хотя по-прежнему народ жил впроголодь, много работал и почти задаром, все же стало немного полегче. Подрастали дети. У Севостьяна Тимофеевича росли сыновья Иван и Николай – красавцы, балагуры, и три дочери – Варвара, Таисия и Екатерина. У Климкиных три сына: Федор Антонович, Василий Антонович и Павел Антонович. Подрастал и мой отец, Василий Изотович, и сестра его Мария. Младший сын прадеда Тимофея Ильича женился там, в Семиречье, и у него родилось тоже два сына, но, к сожалению, о них мне практически ничего неизвестно. Как я уже говорил, дед Изот исчез в 1922 году из-за преследования органов Советской власти и только в 1956 году объявился в Талдыкурганской области, но уже с новой семьей, которая вынуждена была возвратиться из Китая, из города Харбина, из-за известных событий того времени. Но это уже другая история, и о ней надо рассказывать отдельно.
И только народ стал понемногу подниматься на ноги, началась Великая Отечественная война. Почти всех мужчин забрали на фронт. Так и сыновья Севостьяна Тимофеевича с войны не вернулись, погибли. Из трех братьев нашей бабушки Елизаветы, не вернулся Павел, Панька, как его звали друзья и родственники. У Павла Осиповича с Варварой Севостьяновной родилось трое детей: Степан, Александр и Мария. К сожалению, их уже никого в живых нет. Брат бабушки Петр попал в автокатастрофу в 1962 году, погиб. У них с Мариной Ивановной родилось пятеро детей: один сын, Василий, умер в 50 лет, и четыре дочери. Из пятерых детей в живых сейчас только две дочери, Вера и Зоя. Младший брат Александр после войны работал в органах НКВД, умер в 1951 году. Две дочери, Раиса и Валентина, воспитывались в Семипалатинском детском доме, дальнейшая судьба их неизвестна. Сестра Анна вышла замуж за Рекутина Василия, они долго жили в Семипалатинской области, у них было трое детей: два сына, Василий и Николай, и дочь Любовь. Василий умер в 1981 году в возрасте 52 лет. Климкины, Василий Антонович и Федор Антонович, воевали. Федор Антонович вернулся по ранению в 1942 году, работал в родном колхозе бригадиром, ну и, наверное, по своей неопытности или безграмотности, сказал, что-то не то. Его посадили на 15 лет, и вернулся он из лагеря только в 1956 году, отсидев 13 лет. Его сын Николай умер в возрасте 54 лет. Василий Антонович вернулся с фронта живым и невредимым, вырастил шестерых детей, умер в возрасте 64 лет.
Ушли на фронт и два брата моей мамы, Василий и Константин, оба не вернулись. Мой отец, Василий Изотович, был оставлен по брони в тылу как высококлассный специалист. Он всю жизнь комплексовал по этому поводу, жалел о том, что не попал на фронт. Мои родители поженились в 1936 году. В 1937 родился первый сын Алексей, но он умер в младенческом возрасте, затем рождались дети и умирали почему-то в раннем возрасте, и так получилось, что из 11 детей, Всевышний подарил жизнь нам троим: мне, брату Николаю и сестре Зое.
Наши родители и бабушка уже давно умерли. Баба Лиза умерла на восьмидесятом году жизни в 1972 году, не имея ни одной седой волосинки на голове, и до конца жизни сохранила прекрасное зрение, вдевала без очков нитку в иголку. По сути своей она была очень добрым и мудрым человеком, вечно за всех переживала и в то же время была очень требовательной и щепетильной. И еще баба Лиза была глубоко верующей, набожной, но никогда никому своих убеждений не навязывала, а просто сама верила, и всё. Бабушка нам в детстве очень много рассказывала о той жизни, о людях, о своей семье, и главное, в ее рассказах все почему-то были добрыми и хорошими. Длинными зимними вечерами рассказывала сказки, разные интересные истории, а мы сидели и слушали затаив дыхание. Я обязательно о своей бабушке напишу.
Мама умерла в 1984 году, наверное, она могла бы и дольше прожить, но её добила авария, в которую она попала по вине пьяного водителя, её кое-как сшили по кусочкам местные доктора, но от последствий аварии она так до конца жизни и не оправилась. Она, как и бабушка, тоже много рассказывала интересного, старалась в нас воспитать трудолюбие и порядочность.
Отец пережил маму ровно на шесть лет. После смерти мамы он жил в нашей семье, его очень любили наши дети, да и сам он был открытым, общительным человеком, его знали все соседи в округе и продавщицы в магазинах. Когда он приходил в магазин, его пропускали без очереди, но он пользовался этим очень редко. Умер отец осенью 1990 года, три дня полежал в коме и скончался от инсульта.
Сестра отца, Мария, умерла в 1989 году на шестьдесят восьмом году жизни, остался у нее непутевый сын Сергей, ему только сорок лет, но он успел побывать в местах не столь отдаленных, жениться и развестись, растет у него дочь, ей уже пятнадцать лет. А Сергей болтается неизвестно где. Так, наверное, и сгинет, как его отец.
У нас с Любашей трое детей – две дочери и сын, уже четыре внучки, старшей четырнадцать лет, а самой маленькой полгода. Все дети получили высшее образование, как и мы, живут в городе Челябинске. У брата Николая двое детей - дочь и сын, один внук. У сестры Зои тоже двое взрослых детей – дочь и сын, живут они в Казахстане, мы все часто общаемся. Когда-нибудь о своей семье я обязательно напишу.
СЕЛО КОНСТАНТИНОВКА
Село Константиновка расположено в живописном месте Кокчетавской области, Арыкбалыкского района, на левом берегу некогда бурливой, глубокой речки Бурлук, Бурлучки, как её ещё называют. Эта речка, тихая, спокойная летом, весной, в половодье, так разливалась, что сметала все на своем пути, но недели через две успокаивалась и мирно дремала своими омутами и перекатами. По правому берегу тянулся некогда дремучий сосновый лес, он уходил от берега на север, поднимаясь по склону небольшого увала, и постепенно переходил в смешанный березово-осиновый лес, тянувшийся на много верст на северо-запад. Когда пришли переселенцы, по-видимому, мало кто контролировал вырубку леса, потому что буквально за 30 лет от леса остались только чахлые березки, доживающие свой век под копытами многочисленного скота. Лес назывался Чумбай. О том, что это был дремучий лес, говорят срубы домов, сохранившихся до наших дней, толщина бревен в два обхвата. Из этого леса построено все село: церковь, школа, амбары, склады. Они и сейчас стоят как ни в чем не бывало.
Речка берет свое начало в 60-70 километрах по руслу в ключах между маленькими селами Цуриковка и Верхний Бурлук. Я однажды был у истоков Бурлучки. Это довольно заболоченное место, раньше вокруг был лес, а сейчас распаханные поля. Раньше это было гиблое место, а сегодня это вытоптанное скотом поле с кое-где в низинах растущим камышом и осокой. Когда река обмелела, говорили, что это казахи забили кошмами все родники, и поэтому воды не стало. Это бред: разве можно закрыть все родники? Тем более река течет половину своего пути в лесу и в скалах в урочище Уварово. Все гораздо прозаичнее: это результат хозяйственной деятельности. Леса интенсивно вырубались, родники и исток реки постепенно вытаптывались скотом, земля вокруг распахана во время освоения целины, верхний слой десятилетиями смывается в реку, она зарастает болотной травой и постепенно от некогда грозной, бурливой реки остался ручей, да сохранились еще кое-где омуты в лесной части русла, да и они уже не те.
В центре села стояла красивая церковь, по праздникам народ собирался, молились богу, общались, обсуждали насущные вопросы, но с приходом советской власти крест и колокол с церкви сбросили. Из бревен в райцентре построили школу, а на том месте до начала 50-х годов был пустырь, потом построили почту, но теперь нет и почты, только стареющие тополя остались, да кучка мусора и глины. Затем, уже при советской власти, построили школу деревянную и клуб. Эту школу окончило не одно поколение ребятишек, в том числе и мы с братом и сестрой. Теперь нет на этом месте ни школы, ни клуба нет; чахнет некогда красивый, ухоженный школьный сад, а в нем памятник павшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн односельчанам.
А на правом берегу речки стояла пармельница, по тем временам огромное, высотное здание, где-то в три этажа, оно сохранилось до сих пор, но вросло в землю и теперь не кажется таким высоким. На эту мельницу съезжался народ со всей округи, одна мельница была на сотни верст. Для того, чтобы смолоть зерно на муку, люди неделями жили кто где: кто у знакомых или родственников, а кто и рядом с лошадью там же, возле мельницы, чтобы не упустить очередь.
С западной стороны села, в самом его конце в 30-е годы построили МТС (машинно-тракторную станцию), там ремонтировалась техника, сельхозинвентарь. Здание МТС вместе со станками сохранилось до сих пор и продолжает работать. С южной стороны был выгон для скота, а дальше сельский погост. Теперь на месте выгона стоит хлебоприёмное предприятие, мехток, строительный участок, построена новая улица.
А ещё я помню хорошо тополиный сад. Его до сих пор называют Берестнев сад. Могучие тополя в три обхвата вот уже более ста лет укрывают своей тенью влюбленных или сильно жаждущих выпить, благо магазин рядом. В детстве в этом саду мы часто играли, тем более рядом был водоем, в нем мы бултыхались в мутной воде целыми днями.
В пяти километрах от села на северо-восток раскинулся сосновый бор с названием Тургай. Это когда-то была летняя резиденция Омского генерал-губернатора Пелымского. К поместью ведет дорога, она так и называется - «Генеральская». Слава богу, лес до сих пор сохранился и кормит жителей села дарами природы. А вот от барской усадьбы уже ничего, кроме следов не осталось, но я еще помню старую усадьбу, когда до середины 50-х годов там работал лесхоз. В лесу было две поляны, первая и вторая. На территории первой поляны стояли господские дома, рос красивый, ухоженный сад с беседками и дорожками, обнесенный каменным забором, а между первой и второй полянами заросший по берегам плакучими ивами пруд. Этот пруд теперь уже превратился в заросшую сорной травой канаву, столетние ивы доживают свой век. Дальше, за прудом, на второй поляне располагалась челядь: прислуга, садовники, кузнецы, конюхи, располагались хозяйственные постройки. Когда наступала горячая пора, привлекали население окрестных сел, они заготавливали для господского двора грибы, ягоды, корма для лошадей, дрова.
Рядом со второй поляной также рос прекрасный сад, а дальше еще один пруд. Каменный забор растащили на строительство, сады заросли, на месте построек разрослась непроходимая крапива, от прудов остались только следы.
Когда-то большое богатое село Константиновка постепенно стареет, ветшает, покосились старые дома, новые с начала 90-х годов строить перестали – практически не для кого. С развалом Союза, в первую очередь молодежь стала родное село покидать. Кто куда, в основном в Россию. Остались старики да те, кому ехать некуда. Крупный, зажиточный совхоз превратился в хиреющее, доживающее свой век, никому ненужное предприятие с пьющим, деградирующим населением. Каждый приезд на Родину оставляет душевную травму, но приезжать надо: на сельском погосте лежат все наши родственники, родители, братья, сестры, даже друзья, одноклассники. А живых родственников в селе уже никого не осталось. И я боюсь, что пройдет еще лет пять-десять, и некому будет принести и положить цветы на родительский день на могилки самых близких мне людей.
НАШ ДОМ
Наш дом стоит на солнечной стороне, почти в центре села, но это уже не тот дом, что когда-то строили переселенцы, на этом месте он уже третий.
Первый дом стоял почти на том же месте, чуть левее или правее. Было такое поверье, что ни в коем случае нельзя строить жильё на том месте, где стояло прежнее строение, иначе будут болеть и умирать дети, не будет вестись скот, то есть того, кто нарушил такое правило, ждут неудачи во всем. Так оно часто и случалось: даже я знаю таких людей, которые проигнорировали предупреждение стариков и потом долго расплачивались за свое неверие, до тех пор, пока не переносили жильë на новое место. Поэтому каждый раз, когда родители перестраивали дом, они его относили на один-два метра влево или вправо.
Первый, ещё дедовский, дом я, конечно, не помню, хотя мне рассказывали, как однажды в воскресный день обвалился потолок в горнице и меня, тогда ещё полугодовалого младенца, чуть не привалило обвалившимися балками и глиной. Спас большой сундук, возле которого меня уложили спать на полу. Балки упали концами на край сундука, и я оказался как в балагане. Родители еле выгребли меня, чуть не задохнувшегося от пыли, из-под завала.
Второй, деревянный пятистенок, крытый, как и большинство домов в деревне, соломой, пропитанной жидкой глиной, помню хорошо. Летом, как только пойдëт сильный дождь, крыша, как решето, пропускала воду, не успевали подставлять тазики, чашки, горшки. Да и холодные в то время были дома. Бывает, мама моет пол, и пока струйка воды дотечет до порога, она уже замерзает. Этот дом простоял до 1957 года.
Потом родители надумали строить новый. Мы были ещё подростками, но хорошо помню, как отец с матерью до начала строительства заготавливали лес, стройматериалы. Тогда отец и надорвался: лес заготавливали и грузили вручную, а мы с братом были еще маленькими, чтобы хоть как-то помочь. Готовились к строительству года три, а тогда как раз в селе наступил строительный бум.
В 1954 году начали осваивать целину, понаехало народу со всех концов страны, в основном молодежь. За короткие сроки отстроили хлебоприемный пункт, новый мехток, склады, строительный участок, одновременно застраивались целые кварталы, а тут еще приехали в 1956 году переселенцы из Белоруссии, им дома строил колхоз. Это были самые интересные годы в развитии села. Вечером в разных концах деревни слышалась музыка, играла гармошка или баян, распевались песни. Колхоз понастроил новые фермы, все были при деле. Наши родители буквально за лето построили новый дом – деревянный пятистенок под шиферной крышей, а потом, года через три, пристроили веранду, а уже в конце шестидесятых пристроили еще две комнаты, но это уже с моим участием.
Много хорошего с собой привезли первоцелинники, заработал во всю клуб, спортивные баталии каждый вечер собирали сотни болельщиков. Играли в основном в волейбол, футбол. Стали озеленять село, заложили фруктовый сад. Стала повышаться культура земледелия, ушли в прошлое урожаи в 5-6 центнеров с гектара, целина, наконец, накормила страну хлебом. Вообще тогда в стране был невероятный энтузиазм, романтика.
В нашем доме жили мы дружно, каждый знал своё дело, очень трудолюбивыми были родители, а отец, хоть иногда и выпивал, но всегда знал меру. Постепенно мы вырастали, а родители старели. Вот и я, отслужив три года в армии, женился и уехал в другие края, брат тоже после армии женился и уехал, а сестра вышла замуж, живет в столице Казахстана. В общем, в доме остались только родители да баба Лиза. Потом бабушка умерла, мама тоже, отца мы забрали жить в свою семью, дом продали Харчикову Павлу, он купил его уже после смерти жены, жил одиноко, за домом практически не смотрел. За последнее время дом слегка покосился, осел, потускнела краска на фронтонах и наличниках, территория заросла сорняком, а большие тополя в палисаднике, которые когда-то мы посадили, почему-то стали пропадать. И вообще, я уже давно заметил, что многие деревья, особенно тополя, как только хозяева покидают усадьбу, постепенно засыхают и погибают. Теперь вот умер последний обитатель бывшего нашего дома, и он сиротливо стоит на перекрестке дорог, как человек, доживающий свои дни.
Был я недавно в своем родном селе, остановился возле родительского дома, и стало очень тоскливо на душе. Боюсь, что пройдет немного времени, и на месте нашего дома останется кучка строительного мусора, прах. Их, таких кучек много уже на нашей улице. Идешь, смотришь и вспоминаешь: вот тут жили Харчиковы, тут – Родины, тут – Алёшкины, Самохины... Старики умерли, а молодежь после развала большой страны разъехалась кто куда, и в большом, некогда красивом селе, всё больше становится бесхозных домов с пустыми глазницами вместо окон.
Дома так же, как люди, рождаются, стоят, радуя глаз, потом стареют, дряхлеют и умирают.
ШКОЛА
Наша школа стояла в центре села, вокруг был разбит школьный сад с центральной аллеей и цветниками по обеим её сторонам. В школьном саду в основном росли тополя и клены, а также росла одна-единственная сосна, она была какая-то чахлая, невысокая, с кроной на самой верхушке. Кто её посадил и когда, вряд ли кто теперь знает.
Мы любили свою старенькую деревянную школу. В ней проучилось не одно поколение сельских ребятишек, там проходили все школьные вечера. Весной и осенью мы ухаживали за школьным садом, перекапывали землю, сажали молодые деревца, цветы, отдыхали под сенью тополей и клёнов, всё своё время проводили на территории школы. Я не хочу сказать, что все мы были примерными учениками, лентяи и бездельники были еще те, но школу свою любили точно. А где еще было собираться? Телевизоров тогда не было, дискотек тоже, кино в клубе гнали только по вечерам, на танцы нас, школьников, не пускали, вот мы и проводили всё свободное время в школе.
Учителя тогда тоже любили школу, свою работу, любили детей, отдавали всё, что могли, нам, ребятишкам, а мы боготворили своих учителей, и многие, особенно девочки, мечтали стать учителями. Так оно и происходило: после школы многие поступали в пединституты и педучилища и становились учителями.
В нашу школу приехало много молодых учителей, да откуда! Из Ленинграда, Москвы, Киева, Днепропетровска и других городов. А какие это были учителя! Они приехали по доброй воле, за романтикой, и действительно они все свои знания отдавали нам, сельским ребятишкам. Многие из них поженились, повыходили замуж и навсегда остались в нашей деревне. Да и деревней-то уже трудно назвать такой большой населенный пункт.
Среди учителей, приехавших на целину, были и свои оригиналы Чего стоит только Найдорф Борис Юрьевич, высокий, кучерявый, с огромным носом и глазами навыкате. Нам казалось, что он знает все. Преподавал он у нас физику, но и кружки вел: астрономический, фотокружок, кружок моделирования и ещё ряд каких-то кружков. Ходил он зимой и летом без головного убора. Когда он шел по улице, бабки оглядывались и крестились и, по-моему, даже собаки неистово лаяли. Это был истинный представитель еврейской нации – умный, образованный человек. Он обладал огромной силой: кидал гири как пушинки, закручивал стодвадцатимиллиметровые гвозди в спираль, ребром ладони свободно перебивал черенок лопаты. Мы, пацаны, очень уважали его. Мне кажется, он абсолютно не подходил для школы. Впрочем, впоследствии так и вышло: он защитил диссертацию и работал в Новосибирском академгородке. Говорят, что он уже давно умер.
Много было и других интересных учителей. Судите сами: только из моих одноклассников с золотой медалью закончили пять человек и с серебряной – четверо, из двадцати пяти выпускников нашего класса высшее образование получили двадцать четыре.
Тогда школа нам казалась большой и просторной, она имела П-образную форму, центральный вход, длинный коридор, напротив располагались классные комнаты, в основном проходные, в крыльях школы располагались тоже классы, в них занимались в основном старшеклассники, ещё в правом крыле были библиотека и лаборатория, а в левом – кабинет директора и учительская. Весной и осенью на переменах все стремились выйти на улицу, а зимой гуляли парочками-тройками по коридору, иногда даже устраивали хороводы, пели песни. В правом торце коридора была сцена с занавесом, там по праздникам устраивались школьные концерты.
Особенно мы любили школьные вечера, которые всегда проводились в канун каких-нибудь праздников, робко приглашали на танец девчонок-одноклассниц. Вальс тогда был в моде, но его редко кто умел танцевать, да и танго нам нравилось больше, потому что можно было поближе прижать к себе девушку, поговорить с ней. Любили играть в почту, писали письма по номеркам, в шутку признавались в любви, чаще писали всякую ерунду. Танцевали в основном под радиолу, приносили с собой пластинки с модной в то время музыкой, но упаси Бог твист или чарльзтон танцевать: это считалось подражанием западу, стиляжничеством и строго каралось на комсомольских собраниях. Особым уважением пользовались те, кто играл на баяне или гитаре, но таких были единицы. Например, мой одноклассник Лёня Меренцов пользовался особым уважением у девчонок: он единственный из нашего класса играл на баяне.
Дисциплина в школе по тем временам была жесткой, никто не бил окон, не бегал сломя голову по коридорам, а курить ходили чуть не за сто метров от школы, прятались от директора и от учителей, правда, курили почти все и тогда. Да чего греха таить, по праздникам иногда и винцо попивали, правда, не в школе, а у кого-нибудь дома, и старались взрослым на глаза не попадаться.
С начала учебного года, практически весь сентябрь, вся школа, начиная с пятого класса, работала на уборке совхозного картофеля, овощей. А нам что, пацанам, лишь бы не учиться. Вот такое у нас было понятие.
В начале шестидесятых по всей стране стали создаваться школьные ученические бригады. Наша школьная бригада была одной из лучших в области. Мы в старших классах изучали трактор, сельхозмашины и весной с удовольствием работали напарниками у трактористов на весенне-полевых работах, засевали свои школьные поля, а потом всё лето ухаживали за посевами, а девочки в основном работали на прополке. Жили мы на полевом стане: в одном вагончике девчонки, в другом ребята. С нами старшими были учителя, а также кто-нибудь из опытных работников совхоза. А своего бригадира мы выбирали сами. Работать старались хорошо. Бригада у нас располагалась в живописном месте Уварово, прямо возле речки. В свободное время мы купались в речке, играли в футбол, волейбол, а по вечерам разбредались парочками кто куда. То время было чистое, родители за нас абсолютно не переживали.
Я думаю, школа, коллективизм нам здорово помогли в жизни. От совхоза за нами был закреплен бригадир Колесников Егор Макарыч. По-моему, образование у него было не более одного класса церковно-приходской школы. Он курил папироски «Байкал». Егор Макарыч вообще был большой юморист и анекдотчик, иногда «солёные» анекдоты он и нам, старшеклассникам, рассказывал. А когда мы у него просили закурить, он, напустив на себя строгость, говорил: «Бессовестные, у учителя просите закурить! Как вам не стыдно, бездельники! Другое дело, если бы я потерял папиросу, а вы подняли». Он, продолжая бурчать, уходил, а мы за следом подбирали «случайно утерянные» папиросы.
Но жизнь на месте не стоит. В 1968 году я вернулся из армии. Нашей любимой старой школы уже не было, на другом месте построили новую, большую, трехэтажную школу. Старую разобрали на стройматериалы, а потом на еë месте построили современный дом культуры. За школьным садом ухаживать стало некому, центральная аллея заросла бурьяном, в некогда красивом школьном саду гуляет скот, а сосенка та давно погибла.
Понятно, что ничего вечного нет, время не стоит на месте, но щемящее чувство безвозвратно ушедшего времени нет-нет да коснется самой глубокой, потаенной струнки души. Многих шустрых, непоседливых когда-то учеников уже нет на этом свете, а кто-то стал глубоким стариком, но все живые никогда не забудут порог того дома, откуда они сделали свой первый шаг в жизнь.
РЕЧКА МОЕГО ДЕТСТВА
Наша речка Бурлук свое название вполне оправдывает. Летом это тихая, спокойная, мелководная, с чистым песчаным дном, речушка. Вверх против течения, примерно в пяти-шести километрах от села, всё чаще попадаются омуты, заросшие по берегам осокой, ряской, богатые рыбой, и не только чебаком и окунем, но и частенько ловилась крупная щука. А ещё выше, против течения, начинается урочище Уварово, там речка уже течёт в скалах с глубокими омутами и перекатами. Очень красивые места: высокие скалы, а внизу русло реки, по краям обросшее тальником, черемухой, шиповником. В некоторых местах к воде вообще подойти невозможно, только с берега можно увидеть глубокий темный омут.
Урочище Уварово названо по имени владельцев кожевенного завода Уваровых. Завод этот стоял недалеко от реки, на бугре. Остатки фундамента и сейчас еще можно различить среди зарослей чертополоха и кустарника, хотя с того времени, как завод перестал существовать, прошло более восьмидесяти лет.
Тихая летом, весной, в половодье, речка превращалась в бурный, сметающий всё на своём пути поток. Когда начинался ледоход, рëв был слышен на несколько километров вокруг. На берег реки высыпал чуть ли не весь народ, смотрели часами, как льдины, ломая друг дружку, неслись с огромной скоростью вниз по течению. Это зрелище было завораживающим. Потом также неожиданно ледоход заканчивался, и река, полная до самых берегов, несла свои мутные воды дальше, к реке Ишим. Потом недели через две-три река успокаивалась, вода светлела, и мы, пацаны, еще не дождавшись, когда вода прогреется, вовсю купались в промоинах и ямах, которые появлялись в разных местах после каждого половодья.
Мы любили свою речку. Садились на велосипеды, ездили на плёса купаться. Целый день там пропадали, ходили с удочками на рыбалку и без этой маленькой речушки не представляли себе жизни.
Недалеко от Константиновки, тоже вверх по течению, стояла небольшая деревушка Ерклеевка, но константиновцы это село называли не совсем приличным словом Засрановка, это потому что село стояло выше и как бы подсирало нижестоящим населённым пунктам. А ещё выше, километрах в десяти, было расположено село Сагаровка. Теперь уже ни того, ни другого села нет, не сохранились даже погосты.
Чуть выше села Сагаровки, примерно километрах в трех, начинается Бабыкский лес. Это довольно большой и чистый лес, в основном сосняк, и наша речка течет в скальной породе по южному краю леса. Как раз тут и есть самые интересные места. Кое-где по берегам бьют родники, вода в них прозрачная, холодная, одним словом, родниковая. В эти места нам, пацанам, на велосипедах было добираться трудновато, но всё равно мы туда добирались. А когда стали постарше, ездили на мотоциклах и на машинах, отдыхали семьями, с детьми.
В начале пятидесятых годов протянули шоссейную дорогу из областного центра, построили через реку красивый деревянный мост. Этот мост даже наша бурливая речка смыть в половодье уже не могла. Мост прослужил более двадцати лет, пока не построили новый, бетонный. Он являлся любимым местом молодежи, особенно летом, как только стемнеет, молодежь тянется к мосту и группами, и парочками. Машин в то время было мало, вот и гуляли там, тем более рядом стоят вековые тополя, Берестнев сад.
А дальше за мостом, левее знаменитого чахлого леска Чумбай, прямо посреди степи на небольшом холме было большое нагромождение огромных валунов. Это место называлось Баррикады, там собиралась молодежь по праздникам. Моста уже давно нет, его разобрали, камни на Баррикадах зачем-то взорвали, сильно постарел Берестнев сад, только речка всё так же неторопливо несет свои мелкие воды летом и почти так же бурлит весной.
Но всё равно это уже не та строптивая Бурлучка. Наверное, и она постарела вместе с нами. Много в своей жизни мы повидали и огромных рек, и малых, приходилось купаться и в море, но наша маленькая речушка все равно самая лучшая, потому что это речка нашего детства.
БАБА ЛИЗА
Баба Лиза вставала очень рано, особенно летом. Ещё нет и пяти утра, а она уже на ногах, идет корову Рябушку доить. Вставал вместе с бабушкой и я, шел с кружкой, чтобы баба Лиза нацвыркала туда теплого парного молока, неторопливо пил молоко, а бабушка, подоив корову, выпускала ее в стадо, которое уже с мычанием двигалось по улице. Это Костя Зайцев гнал его на пастбище ни свет ни заря. В деревне было позором, если какая-нибудь хозяйка просыпала и не успевала подоить и выгнать вовремя корову.
Потом бабушка хлопотала по хозяйству: кормила кур, поросят, собаку Черкеса, подметала вокруг двора, а я ходил следом за ней как хвостик, «помогал». Бабушка меня похваливала, говорила: «Молодец, помощничек ты мой, чтоб я без тебя делала». А мне было-то всего три-четыре года, но я гордился тем, что помогаю бабушке. Мама в это время таскала воду на коромыслах из колодца в бочки, которые стояли в огуречнике, это для полива огурцов, помидоров, табака. Наработавшись дома по хозяйству, кое-как позавтракав, мама уходила на работу в колхоз и там дотемна работала, как и большинство женщин, на скирдовке сена или на других сельхозработах. И так дотемна, ежедневно, без выходных и отгулов и почти бесплатно.
А вечером, на закате солнца в разных концах села слышались песни: это бабы ехали с работы на бричках, запряженных лошадьми, а иногда и рабочими волами. Удивительный был народ, работал от рассвета до заката, почти задаром, а ещё и пел... Отца мы вообще в летнее время видели очень редко, он работал трактористом тогда и целыми неделями и месяцами ночевал на полевом стане. Там стоял вагончик, в нем спали, ели, отдыхали. Ни о какой постели речи быть не могло: отработал почти сутки, кое-как умылся, перекусил, если было чем, и скорее спать на голые нары, а с утра снова на работу. И попробуй скажи слово, сразу загремишь на другие нары лет на пять-десять. Мы еще тогда были маленькими, не все понимали, но потом я видел натруженные руки родителей.
А баба Лиза тем временем, управившись с хозяйством, кормила проснувшегося младшего брата и ложилась отдыхать, но буквально через час-полтора снова вставала и начинала хлопотать по хозяйству.
Баба Лиза была маленького роста, худощавая, но энергии в ней было, наверное, на троих. Помимо того, что она везде успевала, она еще и была безоговорочным лидером в семье: как она сказала, так и будет. Без разрешения бабушки мама себе не могла даже платок купить. Наработавшись, баба Лиза садилась на лавку, вздыхала, часто произносила: «Господи». Наверное, она в памяти перебирала всю свою нелёгкую жизнь. Без дела бабушка сидеть совсем не могла: вязала всей семье носки, варежки, что-нибудь штопала и при этом всё вздыхала.
Спать в то время ложились рано, сразу с заходом солнца. Бабушка, прежде чем лечь спать, обойдет всех, перекрестит, сама помолится богу и только потом угомонится. Один, а то и два раза в неделю, она ходила попроведовать кого-нибудь из родных или знакомых в больницу, которая находилась в двух километрах от дома. Баба Лиза возьмет сумку, наложит чего-нибудь вкусненького и идет пешком навестить больных, и неважно, зима это или лето, такой у неё был ритуал.
Так и жила эта маленькая старушка, никогда не знавшая покоя, пока однажды сама не слегла. Болела она недолго, всего шесть дней, и тихо, никому не мешая, ушла из жизни. Она так и хотела не быть кому-либо обузой. Похоронили мы её светлым февральским днем. Крест я сделал сам. Прошло уже более тридцати лет, а крест, как новенький, так и стоит, даже не накренился. Так не стало нашей бабушки Елизаветы Осиповны.
МОЙ ДЕД
Мой дед, Изот Тимофеевич, был средним сыном из детей Тимофея Ильича. Он родился в 1891 году в Рязанской губернии н оттуда вместе с родителями и другими переселенцами прибыл на новое место жительства.
В молодости, по рассказам бабушки, это был высокий, статный красавец, озорной и задиристый. «Нет, - говорила бабушка моему отцу, - ты не в Изотку, ты смиренный, а Изотка был шибко озорной». Ни одна драка или стенка на стенку без Изотки не обходились. Помимо того, Изотка был очень способным малым, отлично учился в церковно-приходской школе. Тимофей Ильич всё мечтал, что сын его образумится и пойдет учиться в духовную семинарию, хотел видеть его священником. Не знаю, чем он руководствовался, но Изотка никак не подходил на роль священнослужителя, кроткого и смиренного.
И друзья у него были такие же, разбитные и хулиганистые. Это Федька Колесников, Иван Крылов и Мишка Воскобойников. Иногда они куда-то собирались, целую неделю перешептывались, а потом седлали коней и на несколько дней исчезали из деревни, куда – никто не знал. А потом они возвращались, иногда потрепанные и оборванные, но веселые и довольные. А в деревне поговаривали, что они ездят барымтачить, воровать скот у казахов, аулы которых располагались в 15-20 верстах. Потом действительно стало известно, что ребята этим иногда промышляли: нападут на табун лошадей, отобьют несколько голов и гонят в леса, казахи преследуют их несколько километров, но как только услышат ружейные выстрелы, сразу отстают, а конокрады угоняют лошадей куда-нибудь подальше, там продают по сходной цене местным перекупщикам. Слава Богу, до убийства не доходило. Поэтому они щеголяли в хороших яловых сапогах или даже в хромочах, а Колесников Федор даже гармошку купил, хотя стоила она почти столько же, сколько стоила хорошая лошадь. Казахи тоже частенько угоняли скот у сельчан, так что это был взаимный «обмен». Хотя властями такие действия не поощрялись, но и смотрело оно на все это сквозь пальцы.
Постепенно Изотка остепенился и в 1912 году заслал сватов к Родиным сватать мою бабушку, тогда ей было семнадцать лет. Как рассказывала бабушка, Изотка нравился ей за удаль, стать, да и семья была зажиточной и работящей. Так они поженились, а в 1914 году родился мой отец Василий.
Но сына Изот Тимофеевич видел до полугодовалого возраста, потому что в 1914 году началась первая мировая война, и моего деда и его брата Севостьяна забрали на фронт. А баба Лиза с маленьким ребёнком осталась одна. Как и где они воевали, я не знаю, но Севостьян вернулся в 1917 году, а мой дед попал в плен к Австрийцам. Он рассказывал, как там работал на одного зажиточного бюргера. Уже тогда в Австрии были машины для уборки пшеницы и других сельхозкультур, молотилки, маслобойки и даже тракторы. Он рассказывал, как там хорошо живут.
И всё же Изот Тимофеевич из плена сбежал, долго скитался по России без денег и документов и, наконец, вернулся на родину в 1920 году. В 1921 году родилась дочь Мария, моему отцу тогда уже было шесть лет.
Только дед настроился на мирный лад, как его снова забрали на войну, уже на гражданскую, но не за революцию, а вместе с Колчаковцами против Советской власти. Чем закончилась гражданская война, всем известно, но деду в родном селе оставаться уже было нельзя, и он побежал на юг, где было потеплее и повольготнее, и где было много народу. Там легче было раствориться, чтобы не попасть в жернова послереволюционного террора.
А баба Лиза снова осталась одна, но теперь уже с двумя малыми детьми на руках. Хорошо, что семья была дружной, и руководил всеми Тимофей Ильич. Как-никак, но они помогали моей бабушке и её малым детям до самого раскулачивания в конце двадцатых годов. А Изот Тимофеевич скитался где-то в городе Верном, теперь это город Алма-Ата. О своей жизни в городе Верном он особо не распространялся, но, как рассказывал отец, однажды Изотка, чтобы прожить как-то, торговал яблоками на местном рынке, сколько-то там наторговал и собрался идти к себе на ночлег. Тут его встретили двое каких-то бандюков и хотели забрать деньги. Дед стал сопротивляться, тогда один вытащил нож, с намерением воткнуть его делу в живот, но дед нож перехватил прямо за лезвие, сумел как-то вырвать его из рук бандита и всадил нож по самую рукоятку ему в бок. Второй, видя такую развязку, убежал. Так это или не так было, но шрам у деда был на всю ладонь. После этого дед перестал появляться на рынке и, когда сформировалась какая-то группа челночников-торговцев в Китай, он примкнул к этой группе и навсегда ушел в город Харбин, там тогда русских эмигрантов было очень много.
Вот тогда и потерялся след нашего деда надолго. А в 1956 году моему отцу пришло письмо из Алма-Аты от его дяди по отцу. В нем было написано, что объявился Изот Тимофеевич, что он живет с новой семьей в Талдыкурганской области. Это, конечно, очень всех удивило, ведь все думали, что он вообще пропал.
Мой отец, брат деда Севостьян Тимофеевич и сестра отца Мария сразу же засобирались ехать в Талдыкурганскую область. Баба Лиза отговаривала отца: «Зачем ты поедешь? Ведь ты совсем не знаешь и не помнишь отца». Но отец сказал, что хочет узнать, кто его отец, на кого он похож, что ему интересно, от кого же он произошел.
Я думаю, что он был прав: тому, кто вырос с родителями, с отцом, не понять.
И они в марте 1957 года поехали. Там они встретились. Встреча после такой долгой разлуки была очень волнующей. Дед Изот Тимофеевич приехал на родину с двумя дочерьми, Валентиной и Зинаидой, а жену свою, на которой он женился в Китае, похоронил в 1943 году в городе Харбине. Вот так более тридцати лет он прожил вдали от Родины, от родных и близких, очень сильно тосковал, но что поделаешь, такова жизнь. Потом китайцы начали выживать Русских со своей территории, и дед уже с новой семьей вернулся на Родину, но поселиться власти разрешили только в Талдыкурганской области. У дочерей уже были свои дети, а дед жил со старшей дочерью Валентиной.
Несмотря на то, что дед как бы бросил семью когда-то, мой отец и сестра его Мария, да и другие родственники, дружили с новой семьей деда. В 1963 году дед приезжал к нам в гости, отец возил его на мотоцикле по родным местам, они много вспоминали, дед много рассказывал, но я тогда как-то не особенно старался запомнить, а зря. Дед был очень грамотным, много повидавшим в своей жизни, а то, что я сейчас пишу, так это из рассказов бабушки, родителей. Отец предлагал бабе Лизе вновь соединиться с дедом и жить своей семьей, но бабушка категорически отвергла это предложение. «Зачем?- сказала она, - если уж молодость прожила одна, а теперь на кой он мне?». Да и у отца моего, честно говоря, характер был крутоват. Бабушка боялась, что отец начнет припоминать ему свое безрадостное детство. Лучше от греха подальше. Так они расстались. Дед умер в 1965 году, отцу дали телеграмму, но он как раз в это время как на грех сломал ногу, упав с коня. Нога была в гипсе, и поехать он не смог.
Так, на 74-ом году жизни скончался мой дед, Ляпин Изот Тимофеевич, похоронен он в Талдыкурганской области. Потом, в 1969 году в Константиновку приезжали обе его дочери, Валентина и Зинаида. Мои родители встретили их радушно, и потом долго, до самой смерти, отец с ними поддерживал связь. А старшая дочь Валентины, Люба, училась в Кокчетаве в техникуме и часто приезжала к нам в свободное время, все родственники, чем могли, ей помогали, и деньгами, и продуктами. У Валентины рос еще сын, моложе Любы, но какова их судьба, сегодня никто не знает. Знаю, что Люба вышла замуж и уехала в Оренбургскую область, город Новотроицк, дальше ничего не знаю. Слышал, что Валентина уже умерла, а у младшей дочери Зинаиды был сын. Фамилия у него тоже наша, он окончил военное училище, долго служил в армии, говорят, даже дослужился до генерала, но так это или нет, утверждать не могу. Где сама Зинаида, тоже не знаю.
И вообще плохо, что мы в молодые годы мало значения придаём родственным связям, а потом, когда становимся пожилыми людьми, искать бывает уже некого. Вот так закончилась жизненная эпопея моего деда. Нельзя судить строго его поступки. Мы не знаем до конца, как всё происходило, да и время было такое. А кто может знать, сколько он пережил, что он чувствовал на чужбине?
Спасибо ему уже за то, что он дал жизнь моему отцу, который прожил её честно и достойно, и нам, его потомкам, внукам. Как любила говорить наша бабушка Лиза: «Бог ему судья, Бог его простит».
МОИ РОДИТЕЛИ
Родители часто рассказывали нам, детям, о своей жизни или просто сами начинали вспоминать прошлое, и меня всегда удивляла их память: они помнили в подробностях события тридцати-сорокалетней давности, людей и даже животных. Например, мама заводила разговор: «А помнишь, как у Крыловых был гнедой конь, высокий иноходец, который один раз взбесился и чуть не угробил хозяина?». Отец тоже помнил, и они начинали вспоминать сначала лошадей, потом людей и так воспоминания лились, как ручей. Кто-нибудь говорил, другой поддерживал, дополнял, иногда они спорили, не соглашаясь с некоторыми деталями, но потом приходили к общему согласию, и воспоминания продолжались, а мы, будучи еще небольшими, играли в свои игры и в то же время внимательно слушали и запоминали то, о чем уже не в первый раз говорили наши родители. Часто мы задавали вопросы, и они нам терпеливо рассказывали, особенно мама. Поэтому я, можно сказать, в подробностях знаю о жизни наших родителей с самого их детства и до глубокой старости.
Наши родители оба родились в селе Константиновке в 1914 году. У них у обоих было трудное детство. Я уже где-то писал в своих воспоминаниях, что отец вырос полусиротой. Работать, помогать матери по хозяйству начал с шести лет. Мама тоже выросла без отца, и она его не очень помнила, но хорошо помнила своего деда Романа, много о нем рассказывала.
Родом они были из Пензенской губернии, и если рязанцев дразнили косопузыми, то выходцев из Пензенской губернии звали пензяками или даже пензюками. А разговаривали они нараспев и вместо буквы Е часто говорили Я: бярн, пятух, ня надо и т.д.
И те, и другие в основном были мастеровыми: плотниками, печниками, пимокатами, шорниками, в общем, умели делать всё. В то время как семья моего отца была оседлой, семья моей мамы постоянно кочевала из одной деревни в другую.
Все предки и родственники отца были русоволосыми, светлокожими, высокими ростом, предки же мамы, да и она сама, были черными, как смоль, черноглазыми и коренастыми. Мама как-то проговорилась, что в роду у них когда-то были цыгане. Так это или не так, но все признаки цыганского происхождения были налицо, начиная от имени прадеда (Роман – Ромалэ), кончая цветом волос и глаз, а также постоянной тягой к переездам с места на место.
Мама иногда не успевала запомнить место, где они только что жили, как снова надо было сниматься и ехать. Подольше они задержались только в Привольном, потому что у них там была своя водяная мельница, и дед Роман сам был мельником. А отец мамы нанялся ямщиком и где-то по дороге в Акмолинск тяжело заболел от простуды и умер прямо в степи. Друзья там же похоронили его, а коней продали и прогуляли на помин его души. Теперь уже никто никогда не узнает, где его могила, и песня как будто про него: «Степь да степь кругом».... Маме в то время было всего семь лет, и отца своего она помнила смутно, говорила, что у него была большая черная борода, кучерявый чёрный волос на голове и черные, как уголь, озорные глаза. Мне почему-то он представляется похожим на Будулая из кинофильма «Цыган». Такова судьба моего деда по материнской линии, Михайла.
Вот так и остались без отца моя мать, два её старших брата и сестра Александра. Семье повезло в том, что был еще крепок и здоров дед Роман. Мама говорила, что он умел всë: хоть плотничать, хоть столярничать, был хорошим кузнецом, мог катать валенки, выделывать шкуры, шить шубы и шапки и много чего ещё умел. Но это и неудивительно: в то время многие умели делать все, потому что жили натуральным хозяйством. Вот и мама многое переняла у своего деда: она сама шила нам рубашки, штаны и даже катала валенки.
У мамы, как и у всех её предков, был черный, как смоль, вьющийся волос, глаза карие и кожа смуглая. Когда они поженились с отцом, баба Лиза сноху из-за того, что она такая чернявая, не очень любила. Когда они вздорили, она называла маму цыганкой черномазой, на что мама очень сильно обижалась.
Братья мамы поженились, сестра вышла замуж за Фильченко Федора из села Гусаковки и маму забрала к себе, так она со старшей сестрой Шурой прожила до восемнадцати лет. Брат Василий был старше мамы на двенадцать лет, и она его не очень хорошо помнила, а брат Костя был старше всего на два года, и они очень дружили и любили друг друга. Оба брата мамы погибли в Великую Отечественную войну. После второй похоронки, бабушка Настя, мать нашей мамы, от горя тронулась умом и через полгода в 1943 году умерла.
У старшего брата, Василия, осталось два сына и дочь, живут они в Киргизии в городе Ош, связь с ними мы не поддерживаем. У брата Константина было двое детей, Мария и Петр. Петр в 26 лет умер нелепо от заражения крови, а Мария жила на Украине и умерла шесть лет назад, в 1998 году, в возрасте 60 лет. У старшей сестры, Александры, было пятеро детей. Самая старшая, Мария, живет в Кокчетаве, ей сейчас
уже 82 года. Она плохо видит и передвигается, живет в квартире одна и ей практически никто не помогает. Когда-то миловидная и интеллигентная, эта женщина превратилась в немощную, никому не нужную старуху. Все трое сыновей тети Шуры ушли из жизни в расцвете сил, к большому моему сожалению. Может быть, об этом писать не следовало, но я пишу для себя, поэтому стараюсь как можно правдивее описать все события. Братья очень любили выпить, и поэтому жизнь их была непродолжительной и бестолковой. К сожалению, и дети пошли по их стопам. Младшая дочь, Галина, живёт тоже в Кокчетаве, но со старшей они всю жизнь не мирят, в основном по вине Галины, и друг с другом почти не общаются.
Мой отец рос симпатичным русоволосым парнем, очень работящим и самостоятельным. Этому научило его раннее вступление во взрослую жизнь, потому что с шести лет он остался сиротой при живом отце и с этого же возраста помогал матери по хозяйству. Я думаю, что свою мать, нашу бабушку Лизу, отец любил и почитал очень сильно, во всём ее слушался беспрекословно и выполнял всё, что бы она ни приказала. По этому поводу у родителей часто возникали между собой ссоры. Моя мать не очень-то хотела терпеть указания и выполнять прихоти бабы Лизы, но отец безропотно молчал, хотя я не считаю, что он был слабохарактерным человеком.
Родители поженились в 1935 году. Отца в тот же год послали на курсы трактористов. В то время честь учиться на курсах трактористов или шоферов надо было заслужить. Учился отец целый год в Токушах Акмолинской области. Не знаю, как их там учили, но отец до самой смерти помнил основные правила работы узлов двигателя и самого трактора наизусть. После окончания курсов трактор сразу не давали. Сначала надо было поработать год-два помощником тракториста, а уж потом почет и слава, потому что в то время тракторист приравнивался на селе к сегодняшнему космонавту.
Отец был неплохим механизатором, поэтому его оставили по брони и не забрали на фронт в Великую Отечественную войну. А мама в это время работала дояркой, разнорабочей в колхозе, в общем, куда пошлют, и всё за трудодни, считай, бесплатно. Потом в конце года на эти трудодни выдавали натуроплату: зерно, муку, сено, солому и т д. Того, что давали, не хватало, и люди жили впроголодь, денег вообще не давали.
Первый ребенок родился в 1937 году, назвали Алексеем, но он умер в годовалом возрасте, а потом рождались дети и умирали, прожив один-два года. Только Верочка у нас, всеобщая любимица, прожила 5 лет, умерла в марте 1945 года от кори. Отец как раз в это время находился в командировке, ни какой связи тогда не было. Ехал он домой радостный, купил ботиночки красные для Верочки, а когда переступил порог дома, он все понял, пошел сразу на могилки и долго оттуда не возвращался. А потом он каждый день ходил проведать любимую дочку, возвращался с мокрыми красными глазами. Очень тяжело переживал.
Не знаю, в чем причина, но у родителей умерло восемь детей в младенческом возрасте. Все они похоронены в одном месте, им я поставил оградку, в следующий приезд на родину обязательно поставлю памятник.
Хотя мама с бабушкой иногда вздорили между собой, всё равно семья у нас была дружной, трудолюбивой, и жили мы по тем временам не хуже других. Я не знаю случая, чтобы наши родители что-нибудь взяли без спроса, даже в колхозе, где теоретически всё общее. Этому учили они и нас: лучше останься голодным, но чужого не бери никогда. Верующими я своих родителей назвать не могу. Так, не отрицали, но и не молились.
С самого раннего детства отец брал нас с братом на покос сена, целый день махал на жаре косой. Мы еще были маленькими, но, как могли, старались, помогали сгребать подсушенное сено в копешки. Отец в обед расстилал чистое полотенце где-нибудь в тени, под березой, нарезал хлеб, сало, лук, ставил бутылку с молоком, воду, и мы молча начинали обедать, довольные и счастливые от того, что хлеб едим не даром. Потом мы отдыхали все трое и не слышали, как отец потихоньку, чтобы нас не разбудить, поднимался и продолжал ритмично махать косой. Подсушенное сено отец складывал на повозку, увязывал, садил нас наверх, давал кому-нибудь из нас вожжи в руки и мы ехали. А отец, несмотря на то, что целый день на жаре работал, брал в руки заранее заготовленную лозу и начинал плести корзину.
Честное слово, я не видел никогда, чтобы наши родители сидели без дела, руки у них всегда были заняты. Мать тоже, наработается в колхозе, потом еще дома по хозяйству: постирать, погладить, наносить воды из колодца для полива. А мы еще удивляемся, почему у нас народ часто болеет и рано умирает.
А как умели наши родители, родственники гулять по праздникам! Выпьют немного, и давай веселиться, особенно любили песни петь. Песни были хорошие, русские, украинские, протяжные и весёлые. Они знали, кто как поет, кто выводит, кто поет вторым голосом. Я никогда не прощу себе, почему не записал на магнитофон, как они пели, ведь и магнитофон у нас был. К сожалению, сейчас так уже не поют.
А в 1962 году мама и дядя отца попали в аварию. Дядя, Петр Осипович, брат
бабы Лизы, через несколько дней умер, а мама до конца дней своих промучилась с головной болью. Местные врачи сшили, собрали её буквально по кусочкам, но внешность её сильно изменилась, она уже не стала похожей на ту чернявую, миловидную женщину, слава Богу, что хоть выжила. Родители жили дружно, очень редко ссорились, хотя характер у отца был непростой.
После смерти матери в 1984 году отец попытался жить в своем доме самостоятельно, но здоровье было уже не то, он стал часто болеть, и мы уговорили его переехать в нашу семью. Я тогда работал директором совхоза, дом у нас был большой, дети еще подрастали, и отец согласился. Я думаю, об этом он не пожалел. Так с нами он прожил шесть лет, все время старался чем-нибудь помочь, очень боялся быть обузой в семье. Он считал своей обязанностью ходить по магазинам за продуктами, следил за чистотой вокруг дома, управлялся по хозяйству. Все его уважали и любили, особенно наш сын Сергей, они с дедом были друзья не разлей вода. У отца было много планов на будущее, но сбыться им было не суждено. В 1990 году, в октябре, ему неожиданно стало плохо, отвезли в больницу, где он умер на третий день от инсульта.
Похоронили мы его в Константиновке, рядом с мамой. После похорон в нашей семье было такое состояние, что мы никак не могли поверить в то, что отец уже никогда не вернется в этот дом, в свою комнату. Нам еще долго казалось, что вот сейчас откроется дверь, и наш дед появится на пороге, что отсутствовал он временно. И как бы ни жилось комфортно ему у нас в семье, отец все равно тосковал без мамы, с которой прожили они без малого пятьдесят лет. Видел я, как он иногда украдкой вздыхал, и за те шесть лет, что он прожил один, память и тоска его не притупились. Может быть, ему иногда хотелось поговорить, излить наболевшее, но мы, к сожалению, тогда ещё слушать не умели, все время куда-то спешили, увлеченные круговертью современной жизни, другими понятиями, другим осмыслением жизненных ценностей. Жалею я все-таки о том, что мало внимания мы за повседневной суетой уделяем своим старикам, и осознавать я это стал только сейчас, когда у нас самих уже взрослые дети и есть внуки.
Вот так прожили свою жизнь наши родители: очень много работали и почти ничего не получали за свой непосильный труд. За всю жизнь денег они так и не накопили, как ни трудились. Да Бог с ними, с деньгами...
КОНСТАНТИН САФРОНОВИЧ
В каждой деревне, маленькой или большой, - неважно, есть люди своеобразные, чем-нибудь отличающиеся от других. Это могут быть разные люди, например, богатые, почтенные, с обостренным чувством собственного достоинства. Есть умники, которые везде суют свой нос, всем советуют, что-то, куда-то пишут, суетятся, мешают. От них отмахиваются, как от назойливых мух, но по сути своей эти люди вреда никому не приносят, как, впрочем, и пользы. Есть свои хулиганы, драчуны, без которых не обходится ни одно мероприятие, будь то свадьба или похороны. Им все равно, они найдут повод и обязательно затеют драку, больше всех им самим и достанется. Были у нас такие братья Барашкины, сами плюгавые, некрасивые, но задиристые и драчливые.
Есть злобные писаки – это, как правило, больные люди, они какие-то желчные, вечно чем-то недовольные, завистливые, ворчащие, все время куда-то пишут жалобы. Такие люди, как правило, долго не живут: по-видимому, зависть, недовольство, желчь разъедают их изнутри, как раковая опухоль. Она отравляет им жизнь, и так, в змеином шипении, они постепенно чахнут, и если семья еще не успела заразиться, то родные с облегчением продолжают жизнь после смерти такого завистника, но сблизиться с окружением, соседями им практически не удается, так сильно ржа въедается во весь их род.
Есть в каждом селении и свой Щукарь, чуть похожий или чуть не похожий на классического Щукаря, но по-своему своеобразный и неповторимый. Как раз примерно таким и был Константин Сафронович Зайцев, о котором пойдет речь впереди.
Род Зайцевых начался из Рязанской губернии. И если основная масса людей-переселенцев старалась осесть основательно на новом месте, строили дома, обзаводились скотом, получали свои десятины земли, то Зайцевы, честно говоря, были с ленцой. Своим хозяйством им было заниматься лень, они нанимались кто батраком, кто пастухом, работая за кусок хлеба и чашку похлебки на чужих подворьях.
Константина Сафроновича, дядю Костю, я запомнил тщедушным стариком, со скомканной редкой шевелюрой под облезлой шапкой, вечно не бритыми щеками с рыжей щетиной и стойким табачно-самогонным духом. Это был вечный пастух. Говорят, он в молодые годы служил у самого Буденного в коннице, я не знаю, так это или нет, но конь, если это животное можно было назвать конем, у дяди Кости был. И вот что интересно: они друг на друга чем-то неуловимым были похожи. Конь был такой же старый, ребра наружу, грива скомкана, вся в репьях, низкорослый с понурой большой головой и слезящимися от старости глазами. Когда дядя Костя входил в очередной запой, он привязывал коня к столбу или к какой-нибудь другой привязи, сам пил водку, отключался, спал, просыпался, снова пил, а конь терпеливо и понуро стоял на привязи, лениво отмахиваясь от назойливых мух, терпеливо ждал хозяина. Тот на какие-то мгновения приходил в себя, еле-еле забирался в седло, и конь сам покорно брел домой. Там дядю Костю снимали с седла, заносили, как куль, домой, а коня отпускали на выгон, там он пощипывал траву, ложился отдыхать, а утром, с рассветом, он уже лениво гонялся за непослушным молодняком. Верховой, как ни в чем ни бывало, выгонял скотину на пастбище.
Помню, бабушка часто выносила пастуху яйца вареные, огурцы, хлеб, другую снедь, чтобы он лучше доглядывал за нашей Зорькой. А он говорил: «Слушай, Лизавета, ты бы лучше стакан бражки налила, а то что-то голова болит». «Ага, щас! - ворчала беззлобно бабушка.- Опять скот растеряешь, давай-давай, езжай». Костя щелкал своего скакуна кнутовищем и продолжал собирать по улице скот, громко чертыхаясь и матерясь. А бабушка была права: если Костя напивался, он бросал стадо на произвол судьбы, и оно разбредалось по степи, часто заходя в посевы. Бригадир ругался на чем свет стоит, собирал загонщиков, те еле-еле выгоняли разбредшийся скот, но зато вечером коровы прибавляли молока, наевшись свежей зелени до отвала. Люди хоть и ворчали на Костю, но в душе были довольны. А иногда, наоборот, загонит в речку на целый день, и коровы приходят домой голодные и почти без молока, но это случалось редко.
Зимой, когда скот стоит на подворье, Костя катал валенки. Правда, заказы он выполнять не спешил, катал в перерывах между попойками, но, надо отдать должное, валенки у него получались отменные, как игрушки, потому и терпели Костины выходки заказчики.
Весной, когда уже появлялись проталины, собирались лужи на улицах, Костя мог сесть в пьяном порыве прямо в лужу. Снимал калошу с валенка, хлопал ею по луже, обрызгивая прохожих, и весело хохотал. Прохожие старались обойти это место стороной, иногда показывая пальцем у виска. А Косте было весело, он брызгался и хохотал. Иногда, падая в лужу, засыпал. Никто его не поднимал, все давно привыкли к пьяным выходкам, смеялись, а он порой примерзал вместе с ледяной корочкой в луже. Затем, проснувшись, поднимался, брел домой, но при этом никогда не болел.
Иногда Костя приезжал на своем «скакуне» в баню. Привязав его к столбу, раздевался и заходил сразу в парную, а там уже сидели самые заядлые парильщики. Заходя, Костя кидал на каменку ковша три-четыре воды, все, как горох, слетали с полки, а он начинал париться. Казалось, от жары уши свертываются, а веник ловко летал по тщедушному телу старика, он просил, чтобы еще парку подкинули, и мы старались, кидали воду в каменку, приседая до самого пола от жары, а веник всё летал и летал, разгоняя нестерпимый жар. Так продолжалось минут десять-пятнадцать, потом Костя выливал на себя тазик холодной воды и выходил красный, как рак, в раздевалку. Тяжело дыша, доставал из кармана пиджака уже початую бутылку бормотухи, отпивал добрую порцию, охал и, не вытираясь, одевался. Конь всегда ждал, Костя садился в седло и ехал по только ему одному ведомым делам.
Иногда Костя заходил на свадьбы, именины, другие гулянья. Его никто никогда не выгонял, наливали рюмку-другую, он, кряхтя, выпивал, поздравлял молодых и, покачиваясь, уходил. Не было случая, чтобы он когда-нибудь испортил кому-нибудь праздник. Но старик заходил так запросто не ко всякому. Кого он не уважал, он обходил стороной, говорил: «Это нехорошие люди, я туда не пойду». Многие даже рады были, когда Костя заходил. Потом он несколько дней рассказывал, как его угощали, какие хорошие люди. А на селе это немаловажно.
И вот интересно: живет такой почти никчемный человек, ни тепла от него, ни холода. А он человек со своими странностями, со своими, только ему одному ведомыми, сомнениями, думами, своими интересами, наверное, со своей болью. И мы как будто его не замечаем, он для нас как бы сбоку, как данность на этом свете.
Но вот дядя Костя однажды, уже в семьдесят лет, сел в седло, огрел слегка своего верного «скакуна», всхлипнул как-то странно и обмяк. Умер прямо в седле.
Похоронили его тихо: пришли соседи, родственники, помянули добрым словом и, казалось бы, забыли. Но нет, не стало человека, и как будто что-то ушло из жизни навсегда. Не стало Кости – ушла частичка жизни нас самих. Больше уже такого человека среди нас никогда не будет. Как-то тоскливо на душе становится. Оказывается, каким бы ни был человек, но он человек, он был среди нас. Нет-нет, да кто-нибудь вспомнит Константина Сафроновича, дядю Костю: «А помнишь?..».
ЮРКА БОГАТЫЙ
Из всех репатриированных в 1944 году самыми бедными и оборванными были почему-то греки. Семьи у них были большими, по шесть-восемь человек. Вместо обуви на ногах часто были надеты постолы – это такая обувь из сырой свиной кожи. Она высыхала, и ходить в ней было практически невозможно, но греки, за неимением другой обуви, ее носили. А константиновцы дразнили их пиндосами и греческими посталами, на что они сильно обижались.
В Константиновке поселился Юрий Хаджифеодариди, жил он тоже очень бедно, был безлошадным, ютился с семьей в покосившейся землянке. Однажды он отвез в райцентр на подводе какой-то груз и налегке возвращался домой. К нему в попутчицы напросилась женщина, он ее взял. Пока ехали, разговорились, и тут Юрий начал рассказывать, как хорошо он живёт, что у него самый большой и красивый дом в Константиновке, двор полон скота, дети сыты, обуты и одеты, а сам он работает бригадиром, и у него всегда водятся деньги. В общем, всю дорогу он рассказывал попутчице о своей счастливой жизни и даже приглашал в гости, если будет такая возможность. Доехали они до деревни, женщина поблагодарила Юрия за то, что он подбросил её, и они расстались, ей надо было добираться до следующей деревни.
Как оказалось потом, эта женщина работала в районе налоговым инспектором и часто разъезжала по служебным делам по сельсоветам. Иногда ей приходилось оставаться в некоторых деревнях на ночлег, ведь в то время автобусного сообщения ещё не было, и добирались кто как мог, на попутках.
И вот однажды эта женщина заехала по своим делам в наше село, работу свою за один день она закончить не успела и решила у кого-нибудь заночевать. Тут она вспомнила, как когда-то летом довозил её Юрий-грек и приглашал при случае навестить его семью. Почему бы не воспользоваться приглашением?
Она попросила секретаря сельсовета подсказать, где живет Юрий. «У нас тут много Юриев, какой вас интересует?» - спросила секретарь. «Ну, такой, фамилию я не запомнила, но он очень богатый, у него самый большой дом в вашей деревне», - был ответ. Секретарь – женщина местная, знала всех, как облупленных, и она догадалась, про какого Юрку Богатого идет речь. Она чуть со смеху не покатилась: «Юрка? Да у него землянка вот-вот развалится, а он – болтун, каких еще поискать надо!». В общем, она рассказала, кто такой Юрка Богатый, и они весь вечер хохотали от души.
Но надо знать константиновцев: это всё равно, что Габрово в Болгарии, и если уж попал на язык местным острословам, то всё – клеймо прилипнет на всю оставшуюся жизнь. Вот так и Хаджифеодариди Юрий стал Юркой Богатым.
У них с Парфеной было трое детей: Павлик, Костя и Зоя. Такого воровитого пацана, как Павлик, белый свет не видывал. Воровал он все, что попадало ему на глаза, и неважно, соседи это были или знакомые, родственники или приятели. Он тащил всё: мел у школьной доски, известь со стройки, голубей у соседей, варежки у приятелей, мог стырить деньги, у отца воровал папиросы, деньги.
Юрка Богатый в то время уже работал на автолавке, возил по деревням товары: продукты, водку. Так Павлик умудрялся воровать даже у отца из автолавки. И как только ему не попадало, он все равно не каялся и продолжал воровать и ничего с собой поделать не мог. Ему часто попадало и от сверстников.
Однажды мы работали на уборке совхозной картошки, так он и там умудрился украсть полмешка крупной картошки, зачем – непонятно, ведь у каждого в селе было столько насажено картошки, что её девать было некуда. В это время как раз на своей знаменитой автолавке на поле подъехал его отец, Юрка Богатый. Учительница пожаловалась ему, что Павлик взял картошку. По-видимому, Богатому стало стыдно, и он поймал сына, на глазах у всех поднял его за уши, влепил такой подзатыльник, что Павлик летел кувырком по полю метров пять. Учительница уже и не рада была, что сказала.
Учился Павел в школе очень плохо, задерживался в каждом классе по два года, но я сомневаюсь, что он научился читать. И вообще с Павлушей всегда приключались какие-нибудь приключения. Судите сами.
Однажды мы пошли в лес Тургай, в старую усадьбу генерала, там в то время располагался лесхоз и заброшенные сады всё ещё кое-как охранялись. Мы решили поживиться яблочками-ранетками или другими ягодами. Проходя мимо конторы, мы заметили в палисаднике уже созревшую малину. Павлик предложил забраться в малинник, мы его сначала отговаривали, но потом согласились. Обошли здание с тыльной стороны, перепрыгнули через ограду и гуськом, на полусогнутых, осторожно направились за угол, где росла малина. Павел был впереди, мы трое – за ним. Только Павел высунулся из-за угла дома, как сторож, уже заметивший и поджидавший нас, огрел что есть силы его по голове. Павел от удара и неожиданности взвыл, как раненый зверь, а мы с испугу рванули что есть мочи в ближайшие кусты, позабыв в спешке про Павла.
Минут через двадцать Павел подошел в условленное место, держась за голову, в глазах у него стояли слёзы. Потом он снял свою знаменитую фуражку-аэродром, и мы увидели огромную продолговатую шишку, как вал, пролегающую поперек головы, а Павел двумя руками прикрывал её и горько плакал. Нам стало жалко его, и мы по очереди стали гладить шишак и громко, от души ему сочувствовать. Потом мы не солоно хлебавши пошли домой по лесной просеке, а Павел всю дорогу хныкал.
Мы прошли по просеке километра два, когда услышали шум буксующей машины. Мы же были любопытные, подошли поближе посмотреть, как буксует завязший по самую ось в промоине старый газончик. Водитель старается взад-вперед раскачать машину, газует вовсю, аж жижа в колдобине нагрелась, а от лысого баллона валит пар от сильного трения. Мы взялись помогать: стали раскачивать машину, а Павел, как всегда, решил увильнуть, нагнулся почти к самому колесу и стал смотреть, как оно вращается, выбрасывая позади себя жидкую грязь и комья земли. И надо же было такому случиться, что в это время раздался оглушительный выстрел: это старая лысая шина от трения и температуры разорвалась в клочья. Павлика отбросило метра на два, он лежал на спине в неестественной позе, с ног до головы забрызганный грязью, а знаменитая фуражка-аэродром, в клочья разорванная, висела на ближайших кустах.
Видел бы кто-нибудь в это время рожу Павла. Он поднялся, протирая глаза, и снова заплакал, когда увидел, что от фуражки остались одни клочья, и все приговаривал: «Фуражку подарил дедушка Харлампий». И мы поняли, что Павел плакал не от боли или обиды, а ему очень было жалко фуражку, которую подарил какой-то дедушка Харлампий. Фуражка была ветхой, по-моему, она была ровесницей самого дедушки, которого мы, правда, никогда не видели.
Или вот еще случай. Нас, школьников, иногда в летние каникулы привлекали на работу в лесхоз, и там мы продергивали саженцы, занимались прополкой, ухаживали за молодыми деревцами. За это нам платили небольшие деньги. Жили мы в общежитии на территории лесхоза. Вставали рано, чтобы поработать по холодку, а умываться холодной водой не хотелось, и мы ставили на костер большой дюраллюминиевый чугунок, грели в нем воду. Один из нас пошел в колодец за водой, а кто-то поставил пустой чугунок на огонь. Павлик стоял рядом в семейных длинных трусах и в резиновых сапогах с широченными голенищами на босую ногу. Чугунок без воды так нагрелся, что начал от температуры на глазах у нас деформироваться и разваливаться. Кто-то взял и ударил палкой по этому злосчастному чугунку. От него отлетел кусок полурасплавленного металла и угодил прямо Павлику в сапог. Раздался истошный крик, и Павел пронесся, как метеор, мимо нас, пробежал метров десять, упал на спину и начал дрыгать ногами. Раскаленный кусок металла выпал из голенища и попал на голый живот многострадального Павла, он снова заорал, вскочил и понесся в лес по просеке куда глаза глядят. А нам-то было по 14-15 лет, и мы хохотали до рези в животах.
После этого случая Павлик молча собрал свои вещи и, ни с кем не попрощавшись, покинул наш веселый стан, правда, не забыв попутно прихватить кое-что из наших личных вещей: у кого пропал перочинный ножик, у кого – фонарик, у кого – копейки или даже носовой платок. Потом мы еще долго вспоминали этот случай и хохотали, каждый раз приукрашивая его новыми подробностями.
Отец Павла, Юрка Богатый, работал на автолавке и постоянно в кабине возил мелкокалиберную винтовку. Однажды он приехал на обед, поставил машину возле дома, забыв винтовку разрядить, а Павлик залез в кабину, взял винтовку, в шутку навел её на сестру и нажал на курок. Прогремел выстрел – он попал ей прямо в голову. Пока девочку довезли до больницы, она скончалась. Павлик где-то спрятался, но отец нашел его и бил так, что сбежались чуть ли все соседи, еле отбили Павлика, а рев было слышно на всю деревню. Но и после этого Павлик не изменился, был все таким же воровитым и бесшабашным.
По-видимому, Юрка Богатый сколотил некоторый капиталец, работая на автолавке, и они уехали жить в Караганду. Павлик отслужил в армии, а вернувшись где-то выучился на стоматолога и стал вставлять зубы. Не знаю, каким он был стоматологом, но когда я увидел его лет через десять, я его просто не узнал: из сутулого воровитого хмыря он превратился в здоровяка с золотыми зубами и перстнями на пальцах, упитанного и вальяжного. А его отец, Юрка Богатый, действительно стал богатым, купил в Караганде большой дом, приезжал несколько раз в Константиновку на собственной черной волге. Вот тебе и шутка: прозвище попало прямо в яблочко.
Юрка Богатый десять лет назад умер, Павел совершил крупную автоаварию, отсидел в тюрьме, освободившись, снова работал стоматологом. Говорят, он тоже умер от передозировки наркотиком. Правда это или нет, я точно не знаю, но знаю, что, при всей своей никчемности, воровитости и бесшабашности, по сути своей он был безвредным и добродушным человеком, со своими странностями, и мы его принимали таким, какой он есть. Не всем же быть похожими друг на друга.
БУРАН
Эту историю когда-то в детстве рассказал мне отец, записал я её уже будучи взрослым, по памяти.
В те далекие годы, еще перед войной, бураны были жуткие: бывало, по 2-3 недели люди не могли выйти из домов, скот поили талым снегом, сено и солому держали всегда в сараях. А когда устанавливалась погода, село узнать было невозможно, из снега торчали только трубы. Мужики копали тоннели, чтобы как-то выходить из домов, откапывали окна, бабы втыкали прямо в снег колья, натягивали веревки, развешивали стираное бельё. Все суетились, а мы, детвора, радовались, доставали санки, лыжи и целыми днями пропадали на улице, на морозе, и практически никогда не болели.
В пятнадцати километрах от деревни, в урочище Карагасай, стояла в лесу на краю запруды заимка. Там круглый год держали на откорме скот, неделями жили скотники, сторожа, повар. В тихую погоду скот выпускали на водопой к заранее приготовленным прорубям. И так из года в год, это называлось откорм.
Отец в то время был бригадиром откормочной фермы и, так сказать, по долгу службы почти ежедневно объезжал свои владения. Заимка в урочище Карагасай как раз была одной из ферм, которой заведовал мой отец. Если погода устанавливалась на несколько дней, то отец ездил на легкой кошевке по наезженной дороге. Если буранило, отец садился на своего разноглазого жеребца по кличке Веселый и ехал верхом, так было легче коню.
На этот раз буранило долго, все беспокоились, как там, на заимке, тем более уже заканчивались продукты, и как только немного успокоилось, отец сел верхом на своего любимца Веселого, взял с собой авоську с продуктами и под причитания бабушки Лизы с рассветом выехал на заимку. Пока ехал по деревне, казалось, что вроде погода ничего, от тела жеребца было тепло, тем более отец редко ездил в седле. Ветер слегка поддувал под полы полушубка, мороз был несильный. Так легкой рысцой Веселый без понукания бежал по заснеженной местами дороге, легко угадывая твердость накатанного наста. Ничто, казалось бы, не предвещало перемены погоды, но постепенно, с рассветом, полетели сначала редкие хлопья пушистого снега, затем снег начал лететь плотной стеной.
Отец заволновался: куда ехать, то ли вперед, то ли возвращаться? Он проехал уже сухую балку, а это как раз половина пути. Веселый всё также ходко шел по направлению к заимке, легко угадывая дорогу. «А, вперед, там люди ждут!» - решил отец. Так они прошагали ещё с километр, а вьюга становилась всё сильнее и сильнее, порывы ветра чуть ли не сбрасывали отца с лошади. Веселый сделал ещё несколько шагов и остановился. «Но, Весёлый!» - крикнул в пургу отец, но жеребец стоял на месте, прядя ушами и перебирая ногами, как бы пританцовывая. «Эй, дурачок, что там случилось?» - отец перекинул повод через голову лошади, спрыгнул в снег, погладил Веселого по щеке. Конь тревожно заржал, отступил на шаг. Отец посмотрел вперед: мама родная, ещё бы шаг и навеки ушли бы они с конем в тартарары. Веселый остановился на самом краю обрыва реки Карагасайки. «Спасибо тебе, милый», - сказал отец, обнял коня за шею, прижался к ней щекой. Веселый, как будто человек, понял, что его благодарят, махнув головой, снова заржал тихо, и отец, повернув коня, повел его подальше от этого страшного обрыва, у основания которого никогда не замерзал глубокий омут.
Отведя коня шагов на десять от обрыва, отец попытался взобраться на мокрую спину Веселого, но тяжелая, намокшая одежда и глубокий рыхлый снег не дали этого сделать и, угрузая почти по пояс в снегу, отец повел коня на поводу. Этот обрыв отец знал хорошо, он понял, что на заимку надо брать влево, по-над обрывом, до переезда через сухую речку, а там останется прошагать версты четыре. И так они пошли: человек впереди, а за ним лошадь. Снег стоял стеной, всадник и лошадь слились в один белый комок, ни им ничего не было видно, ни их никто не смог бы различить.
Прошагав так с полверсты, усталый конь остановился, тяжело двигая боками – устал. Отец подошел к коню, еле передвигая ноги в глубоком снегу, чертыхнулся: «Ну, что, браток, будем делать? Ты-то, может быть, и выберешься, а мне, наверное, тут и конец». Лошадь молчала, тяжело поводя боками. Отец взял коня за повод и опять тяжело, угрузая в рыхлом снегу, побрел, проклиная судьбу и погоду. Снег пробирался во все щели: и за воротник, и под полушубок, идти с каждым шагом становилось всё тяжелее. Устал и конь. Но и человек, и лошадь понимали, что если один из них сдастся, то и другой может навеки остаться под глубоким покровом снега. И они шли. Сколько прошло времени, отец не знал, а по солнцу определить было невозможно: плотная стена снега застила всё небо.
Неожиданно ветер стих, отец поднял голову и увидел: впереди стоял густой смешанный сосново-березовый лес. Он знал хорошо эти места и понял, что до заимки ещё шагать версты три, но сил уже не было, да и заметно стало темнеть: зимние дни коротки. Снег в лесу был совсем рыхлый. Бредя по пояс в снегу, отец добрался до густого сосняка. Здесь было тихо, только верхушки высоких сосен гудели да хлопья мягкого снега летели сверху, припорашивая только что оставленные следы.
Привязав Веселого к дереву, отец вытащил нож, стал резать сосновые лапы. С подветренной стороны толстой разлапистой сосны вытоптал снег, соорудил шалаш, обсыпал его снегом, утрамбовал, внутрь набросал сосновых лап, наломал сухих веток для костра. Забросил сумку с едой в шалаш, подошел к лошади: «Что будем делать, а, Весёлый? Ты проголодался?». Конь всхрапнул, словно соглашаясь с хозяином. Отец вытащил сумку, отломил большой ломоть хлеба, посыпал солью и стал по кусочку скармливать коню. Тот с таким удовольствием облизывал губы, что и хозяин почувствовал, что проголодался. Скормив полбуханки хлеба Веселому, похлопав коня по холке, отец с сожалением положил остаток хлеба за пазуху и полез в шалаш.
В шалаше было темно, тихо, снег уже успел припорошить сосновые лапы. Войдя в шалаш, отец изнутри закрыл вход заранее приготовленными ветками, удобно устроился, достал кисет, кусочек газетки, свернул цигарку, закурил. Махорочный дымок приятно щекотал ноздри. Ничего, не пропадем, бураны тоже когда-нибудь кончаются. Достал сумку, налил полкружки самогона, выпил с удовольствием, закусил хлебом с салом и луковицей. Костер разжигать не стал. Удобно устроился и, то ли от усталости, то ли от выпитого крепкого самогона, быстро уснул. В шалаше было тепло и уютно. Конь тоже вытоптал себе место и, тяжело вздыхая, лег. Наверное, он тоже своим конским умом о чем-то размышлял в эту ненастную, вьюжную ночь.
Сколько проспал отец, он не понимал, но проснулся от какого-то приглушенного стона. Первая мысль была: волки, они напугали Весёлого. Что делать? Ни ружья, ни топора. Холодный пот пробежал по спине отца, он лихорадочно соображал, что делать. А возле шалаша скрипел снег, слышны были шаги и какой-то жалобный, приглушенный стон. Страх сковал рассудок человека. Отец хотел как бы сжаться, раствориться в лапах сосняка. Но он быстро пришел в себя. Костер! Сухие ветки были в шалаше, отец быстро собрал их в кучу, зажег кусок газеты, и мелкие сухие ветки, весело затрещав, загорелись, ярко освещая шалаш. Дым стал застилать глаза, отец привстал в шалаше, проделал отверстие над костром, тот заполыхал еще веселее. Ветки надо было экономить. Костерок был небольшой, но отец согревался не столько его теплом, сколько сознанием того, что огня боятся дикие звери, в том числе и волки.
Ветер в чаще леса совсем стих, была тихая, лунная ночь. Отец раздвинул вход в шалаш и осторожно выглянул. Шалаш до половины был занесен снегом и казался каким-то родным, уютным и одиноким пристанищем в этом заснеженном подлунном мире. Веселый стоял, по-прежнему привязанный к сосне, перебирая ногами. Явно он был чем-то напуган. Взяв в руки нож, отец осторожно выбрался наружу, огляделся вокруг, ничего не увидел, но когда он заглянул за обратную сторону шалаша, то от неожиданности и испуга даже присел. Но это на мгновение. В снегу за шалашом лежал маленький олененок. Луна ярко освещала прогалину в сосняке, олененок смотрел на человека детскими испуганными глазами, дрожал всем тельцем, старался приподняться на ослабших ножках, но у него ничего не получалось. Ах ты, малыш, как ты сюда попал? Где твоя мамка? Они, маленький звереныш и человек, могучий повелитель природы, смотрели друг другу в глаза и как будто мысленно переговаривались, понимая друг друга.
Отец боялся спугнуть малыша, осторожно подошел к олененку, погладил. Тот еще сильнее задрожал, затем лизнул руку отца, и отец подошел еще ближе, подсунул руку под тельце животного, обхватил его другой рукой, приподнял. Олененок привстал, передняя левая ножка висела, и даже в сумерках было видно, что она внизу распухла. Отец осторожно втащил олененка в шалаш, подбросил сухих веток в костерок, положил на правый бок, нашел остаток хлеба поднес кусочек к губам. Олененок сначала фыркнул, затем, лизнув корочку, осторожно взял ее влажными губами и с удовольствием стал жевать. Когда он проглотил корочку, потянулся к руке человека, словно прося еще. Видно, проголодался. Надо было ехать, пока погода не испортилась снова.
Была полночь. Тихая, морозная, лунная. Куда же олененка девать? Осмотрев ногу, отец понял, что она не переломлена, а просто вывихнута. Ну, потерпи, милок, сейчас поправим. Он прижал тельце олененка своим грузным в одежде телом, поудобнее, взял ножку возле копытца, пошевелил, затем резко дернул. Хрустнув, сустав встал на место. Олененок застонал, задергался, отец подержал его ещё с полминуты, затем отпустил. Олененок попытался встать. «Лежи, лежи, рано тебе ещё», - сказал отец и снова стал давать ему корочки хлеба. Тот успокоился и с удовольствием уплетал никогда ранее не виданное лакомство.
Отец закурил, достал сумку с продуктами, ещё раз перекусил и решил, что пора ехать на заимку. Затушил костерок, приподнял олененка. Тот уже стоял на всех четырех ножках, слегка приподняв ещё не совсем зажившую. Отец вытолкнул его из шалаша. Олененок словно не хотел выходить из тепла, но все же вышел, посмотрел по сторонам, как-то весело заблеял. Шагах в двадцати стояли два красавца оленя: это были родители маленького звереныша. Увидев свою мамку, олененок весело подпрыгнул на месте, наверное, от радости, затем, слегка прихрамывая, потрусил к взрослым оленям. Они постояли с минуту, повернулись и медленно пошли в заросли сосняка. Отец усмехнулся, у него было такое прекрасное настроение, и он тогда явно понял, что все мы – одно целое в этом сложном мире.
Весёлый стоял, перебирая нетерпеливо ногами: он ждал, когда хозяин погладит его, угостит корочкой хлеба, и они снова двинутся в путь. Отвязав коня, отец еле взобрался на него, снег был рыхлый, глубокий. Шалаш, как родной дом, одиноко стоял, занесенный снегом, возле могучей сосны. Угрузая по брюхо в снегу, они наконец-то выбрались на дорогу и двинулись в сторону заимки.
Ночь была лунная, позади осталась чёрная стена дремучего леса.
ВОЛКИ
Заимка, что находилась в урочище Карагасай, была расположена на берегу Сухой речки. Весной эта речка бурлила от талых вод, а летом почти полностью пересыхала и зарастала разным кустарником так, что в некоторых местах перейти на противоположный берег было невозможно. В самом широком месте речку запрудили, и получилась довольно большая и глубокая запруда, в ней зимой и летом поили скот, который здесь оставляли на зиму для откорма. Всё лето заготавливали сено, солому и таким образом зимой скот кормили этими запасами.
Скотники работали вахтовым методом – менялись через месяц. Место было очень красивое: со всех сторон заимку окружал берёзовый лес, местами заболоченный и заросший густой порослью; в двух километрах на север лес перемежался большими полянами, на которых летом косили сено и пасли скот.
Ферма представляла собой два параллельно стоящих помещения для скота, соединенных между собой крытым переходом, то есть буквой Н, что было особенно удобно в зимнее время. В торце одного из помещений стоял дом для жилья и отдыха животноводов, он был деревянный, теплый. На откорм оставляли молодняк, иногда бывал и падеж. Павших животных увозили на скотомогильник как можно дальше от заимки, чтобы падалью не привлекать диких зверей, особенно волков. А их в то время развелось столько, что они истребили почти всё живое, и от голода иногда заходили даже в поселок, особенно в крайние дома. Рвали и ели собак, кошек, а иногда через соломенную крышу забирались в хлев к скоту. Учует волк запах овец, разгребет солому на крыше, запрыгнет в овчарню, перережет всех овец, а выбраться наружу не может. Утром озлобленные хозяева таких волков запарывали вилами или до смерти забивали кольями: ружья в то время были редко у кого.
Люди по одиночке боялись выехать по своим делам за околицу села. Бывали случаи, когда волки задирали лошадей или даже человека. Поэтому, когда надо было ехать за сеном или по другим делам, собиралось несколько подвод и таким образом доставляли корма. Волки близко подходить боялись и держались всё время на расстоянии.
Почему так много развелось волков? Это вполне объяснимо. В центре и на западе страны шла сначала гражданская война, а потом Отечественная, передвигалась большая масса людей, повсюду гремела канонада, поэтому волки уходили все дальше и дальше на восток: здесь дичи было много, а населения, наоборот, мало, никто не стрелял. Волки чувствовали себя вольготно и сыто, пока их не развелось столько, что они истребили всю дичь и стали нападать на домашний скот, а иногда и на людей.
Насколько эти звери умны, убедился знаменитый охотник-волчатник Труш. Он их перестрелял за свою жизнь не один десяток, знал их повадки досконально, но и к нему они приспособились: как только Труш выходил на охоту, волки, словно сговариваясь, где-то исчезали. Что он только ни делал: и одежду кипятил вместе с капканами и другим охотничьим снаряжением в хвойном растворе, и надевал зимой белый халат, всё без толку. Волки в его капканы попадаться перестали, хотя другие охотники ловили их и стреляли. Труш даже вынужден был прекратить охоту на волков года на три, пока не подрос волчий молодняк и постепенно не вымерло старшее волчье поколение.
Однажды отец рассказал такой случай. Как-то зимой он, проверив свои владения, заночевал на заимке в урочище Карагасай. Оба – и конь, и человек – хорошо отдохнули, поели, и по раннему утру отец решил ехать домой. Весёлый уже перебирал копытами, предвкушая быструю прогулку на спине с седоком. Отец зимой никогда не ездил на лошади в седле, в лучшем случае подстелет какую-нибудь рогожку, потому что так было теплее и седоку, и лошади. Единственная проблема была зимой: если уж слез с коня, забраться на него в теплой зимней одежде было нелегко.
На востоке уже слегка забрезжил рассвет, под ногами блестел искристый, за ночь нападавший легкий снежок, было тихо и спокойно. Но, Весёлый! И конь, почувствовав под ногами твердый, утоптанный наст, легко затрусил в сторону деревни. Не успели они отъехать и полутора верст, как конь тревожно заржал, запрядал ушами и начал всхрапывать, всё ускоряя бег. Отец догадался, что Веселый учуял что-то не ладное. Вглядевшись во все еще темный лес по сторонам дороги, он заметил мерцающие огоньки. Сразу стало ясно: это волки.
У отца по спине поползли мурашки. Назад отступать было нельзя, потому что звери шли по следу. Откуда они? В этих местах обычно волки не появлялись, потому что голодными они не были: недалеко скотомогильник, и зимой там всегда пировали и лисы, и волки, и разные птицы-падальщики. Значит, это пришлые, а они были голодными и опасными. Отец пришпорил коня, он решил побыстрее доскакать до полевого стана тракторной бригады. Там стоял деревянный вагончик, и в нем часто оставались дрова на всякий случай, вокруг стоял оставленный на зиму сельхозинвентарь, а рядом лежала большая куча соломы, которую можно было поджечь и отпугнуть волков.
Конь каким-то чутьем понял замысел седока и галопом понесся к полевому стану. Отец оглянулся и увидел: волки с двух сторон стали обходить Весёлого, но тот без понукания несся, как пуля. Они всего на мгновение опередили волков, когда подъехали к вагончику. Конь тяжело дышал, храпел, не стоял на месте. Отец схватился за верхний край двери вагончика, рванул ее на себя, и дверь, слетев с петель, бухнулась рядом, в снег. Отец соскочил с коня, запрыгнул в вагончик и резко потянул за собой Веселого. Тот, не сопротивляясь, впрыгнул внутрь. Волки, клацая зубами и злобно рыча, низко приседая на задние лапы носились рядом со входом. Веселый продолжал храпеть, а отец стал стучать совком по буржуйке, потом он трясущимися руками поджег сухую березовую кору, поднес ее к дровам, сложенным в буржуйке и они, весело потрескивая, загорелись. Теперь отец знал точно, что беда пока миновала. А наглые волки уселись полукругом недалеко от входа и, по-прежнему клацая зубами, рычали.
Конь немного успокоился, хотя продолжал дрожать мелкой дрожью. Когда дрова разгорелись, отец вытащил горящее полено и с силой запустил его в ближайшего зверя. Тот, оскалившись, увернулся и пересел на другое место. Что же делать? Сколько они будут сидеть? Но тут солнце окончательно вышло из-за горизонта, стало светло и не так страшно. Звери сидели наружи, а человек и лошадь – в вагончике и ждали, кто кого пересилит. Потом неожиданно вся стая вскочила на ноги, огляделась по сторонам и побежала в сторону леса. Отец выглянул наружу: волки были уже на косогоре, метрах в трехстах и бежали дальше, наверное, кого-то высмотрели. Отец еще некоторое время подождал, пока волки совсем не исчезли из поля зрения. Тогда он осторожно вывел Весёлого из вагончика, навесил дверь на место, прикрыл ее, сел на коня, и они быстро поскакали в сторону деревни. Веселый бежал как никогда резво и без понукания.
А мама рассказывала, как, будучи еще молоденькой девчонкой, помогала старшей сестре на молочной ферме. На работу они ходили рано, и тут однажды бригадир попросил ее отвезти на склад мясо прирезанной коровы. Запрягли лошадь, сложили мясо на сани, и мама поехала с фермы к поселку. Было еще темно и морозно. Вдруг мама увидела, как сани догоняет большая серая собака. Она даже не подумала, что это волк. А тот догнал, схватил полтуши мощными клыками и стал стягивать ее с саней, а мама, наоборот, тянула мясо к себе. Тут напуганный конь резко рванул и рысью помчался в поселок, а мама выпустила тушу из рук, и та упала прямо на дорогу. «Собака» отстала.
На склад мама привезла только полтуши. «А где остальное?» - спросил завскладом. Мама сказала, что остальное стащила какая-то собака по дороге. Завскладом догадался, что это за «собака», вскочил на коня и поехал в ту сторону, за ним увязалось по дороге еще несколько мужиков. Когда они подъехали, то увидели, что от полтуши мяса остался один скелет, а волки сидели неподалеку и, как ни в чем ни бывало, клацали зубами. Они чуяли, что ружей у мужиков не было, и вели себя нагло.
Русские мужики не умели так охотиться на волков, как на них охотились казахи. У них тоже ружей не было, но у них были хорошие верховые кони, очень выносливые и резвые, и они свободно могли догнать волка. А вместо ружья у них была длинная заостренная с одного конца палка, она называлась сойыл. Всадник догонял на своей резвой лошади волка и острым концом сойыла буквально пронзал его чуть ли не насквозь. Но таких охотников было немного, и всех волков они уничтожить не могли.
А потом начали осваивать целину, нагнали много техники, распахали все свободные клочки земли, у людей стали появляться охотничьи ружья и постепенно, лет за десять-пятнадцать, почти всех волков истребили. Хотя и сейчас нет-нет да кто-нибудь увидит вдали от населенных пунктов волчьи следы. Но они стали очень осторожны, и редко кому-либо теперь удаётся добыть волка.
Зоологи говорят, что это одни из самых умных и выносливых хищников на земле. Я думаю, что они правы.
КАПИТОН УРЮПИН (КРОВОПИЙЦА)
Этот тщедушный, небольшого роста человек, если такое чудовище можно назвать человеком, жил в Константиновке, работал бригадиром, а бригадир в то время на селе был бог, царь и государь. Старики до сих пор с содроганием вспоминают этого безжалостного, без чувства сострадания человека.
В колхозе люди работали много, от зари до заката находились в поле, на току, на ферме, им некогда было присмотреть за собственными детьми, управиться по хозяйству, посадить огород. Работа тогда была вся ручная, женщины таскали ящики-носилки с зерном по 80-100 килограммов весом вверх по трапу в бункер-накопитель, а другие женщины крутили вручную веялку и таким образом сортировали зерно. Или целый день на жаре грузили сено на повозки, отвозили на сеновал, там разгружали, складывали в скирды. Питались очень скудно. Своим подсобным хозяйством заниматься было некогда, хорошо, если у кого были старики, так они хоть присматривали за детьми, за хозяйством. А у кого не было? Стоит только не прополоть-окучить картошку, и всё – урожая не жди. Не заготовил каких-нибудь ягод, грибов – тоже будешь сидеть зимой, как говорили, лапу сосать.
Уйти самовольно с работы было нельзя: срежут трудодни. Но жить-то как-то надо было, и женщины шли на всякие ухищрения, чтобы как-нибудь увильнуть с работы. Клубника, вишня поспевают, грибы пошли. Так вот, бывало, соберутся несколько женщин и затемно идут за 8-10 верст в лес за ягодами или грибами. Затемно, потому что нужно было незаметно выйти из села, чтобы Капитон Урюпин, или как его звали «кровопивец» не увидел, иначе добра не жди. И бывало, что Капитон догонял женщин на лошади, уже километрах в пяти от села, доставал свой кнут и хлестал, не разбирая мест, гнал женщин обратно, всю дорогу матерясь, обзывая последними словами. Иногда женщины прибегали домой все избитые, в порванной одежде. Было и такое, когда он поджидал возвращавшихся поздно вечером женщин с полными корзинами где-нибудь возле околицы села, догонял, нещадно хлестал, а они в панике бежали куда глаза глядят, бросая на ходу свои авоськи с собранными за целый день ягодами. Один мужчина попытался было защитить свою жену, выхватил кнут у Капитона, замахнулся на него, даже не ударил, но в скорости его забрали, посадили на три года в тюрьму, чтобы другим было не повадно. Капитон ведь был член партии, а режим был сталинский, вот все и боялись.
Женщина и её дети не имели право болеть, упаси Бог она не вышла на работу. Капитон Урюпин приедет домой и поднимет ее, полумертвую, с постели, заставит идти в поле или на ток. Семьи были многодетные, голодали, но не приведи Господь, чтобы кто-нибудь подобрал хоть один колосок с уже убранного поля: могли посадить, поэтому лучше пусть сгниет. Были и другие бригадиры в колхозе, но они хоть как-то жалели людей, а этот кровопийца жалости совсем не знал. Была у нас такая женщина, многодетная, без мужа, Фроленчиха. Так она говорила: «Сдохнет кровопивец – пойду на могилку и оправлюсь».
Я не могу представить, о чем этот человек думал, когда оставался наедине с собой? Мало кто знал, как звали его жену. Звали просто Капитониха, а имя ее вроде было Люба. Это была абсолютно забитая, бесправная, серая, как мышка, женщина. И пусть бы этот кровопивец был из богатого кулацкого рода, тогда хоть как-то можно было бы понять его лютость и ненависть, но ведь он был из захудалого рода безземельных бездельников. Почему же он так вымещал зло на своих односельчанах? Дорвётся такой человек до власти и изгаляется над другими, зная о своей безнаказанности. У них с Капитонихой был сын, но он, наверное, из-за проклятий односельчан, как только подрос, уехал от стыда за своего отца неизвестно куда, и больше его никто никогда не видел, хотя он-то в чем виноват. Честно говоря, я столько наслушался об этом кровопийце, что мог бы много написать, но мне даже бумаги жалко, не стоит он этого.
Наконец Капитон в расцвете сил умер, народ вздохнул с облегчением. По христианскому обычаю покойника надо обмыть, но никто не согласился, люди отказались даже могилу копать, гроб делать, пришлось председателю колхоза нанимать посторонних. На похороны Капитона никто не пришел. Его закопали, как собаку. И долго ещё, когда люди приходили на кладбище на родительский день или на Троицу, могилку кровопийцы обходили стороной, плевали в её сторону. Даже жена Капитона стеснялась при людях посещать могилу мужа. Потом, через некоторое время, кто-то выбросил крест за ограду кладбища, хотя, в сущности своей, народ у нас незлобливый, не злопамятный, но это ж надо так насолить людям, что и через много лет они не могут забыть и до сих пор вспоминают о тебе с содроганием.
Сейчас уже никто не найдет его могилу, заросла она травой, только память человеческая передаётся из поколения в поколение, и нет-нет, да кто-нибудь вспомнит Капитона-кровопийцу недобрым словом. Наверное, Богу угодно, чтобы и такие люди жили на земле, но, к счастью, он их рано забирает к себе. Пусть земля ему будет...
СЕМЕН НИКИТИЧ
Семён Алёшкин вообще был интересным человеком: среднего роста, бас, как у Левитана, нос крючковатый, а левый глаз стеклянный. Это еще когда-то в юности глаз ему выбило зарядом пороха, когда он с другом разбирал ружейный патрон.
Семен любил выпить, часто, напившись, терял свой знаменитый стеклянный глаз, потом жена его Евдокия долго искала эту стекляшку, исследуя места, где накануне поддавал ее муженек, это при условии, что никто его не раздавил случайно. Бывали и такие случаи, когда лучший друг, тоже Семен, Якубовский, успокаивал Семёна Алешкина и делал ему новый глаз из бутылочного стекла: если на трезвую голову, то получалось еще ничего, ну а по пьянке так разрисует, что глаз походил на глаз разъяренного быка, которого ведут на бойню. Даже бабки крестились, увидев Семена с новым глазом. А мой отец подшучивал над ним, говорил: «Сёмка, ты когда идешь в гости, глаз оставляй дома в стакане с водой, а то всё равно потеряешь». На это Семен реагировал отборным матом.
Семья Алешкиных раньше была зажиточной, да и Евдокия, тетя Дуня, как мы её
Называли, тоже была из богатой семьи Бондаревых. У Семена с Евдокией было двое детей, сын и дочь. Сын так же, как отец, «не любил» выпить. Один раз даже залез в дежурный магазин за водкой, его на утро тут же, рядом с магазином, спящего, взял участковый. Не знаю, сколько он там утащил бутылок, не думаю, что много, но списали на него всю недостачу, и Анатолий на три года загремел в каталажку.
Я помню дом Алешкиных, весь засаженный деревьями, а впереди дома стоял станок для скручивания веревок. Алешкины одни-единственные в деревне делали верёвки из льна и конопли, были, так сказать, монополистами. Помню я и деда Никиту, отца Семена. Небольшого роста, коренастый старик, с густой, прокуренной бородой. Нам, пацанам, казалось, что он глухонемой, потому что никто из нас никогда не слышал, как он разговаривает.
У Алёшкиных водились самые красивые голуби в округе. Иногда, выбрав момент, когда дед Никита оставался один дома, мы приходили к ним в усадьбу, зная, что дед Никита сидит на толстом чурбаке, курит самосад. Это у него такой ритуал был: управится по хозяйству и сидит на пеньке во дворе, без головного убора, неважно, зима это или лето. Мы робко заходили в сарай, там привязанный на цепи злой пес Полкан разрывался от лая, а дед Никита сидит на своем пеньке и ухом не ведет. «Дед Никита, можно мы несколько штук голубей поймаем?». Он медленно повернет голову, даже бровью не пошевелит, как всегда ни слова не проронив, потому что слова у него на вес золота. А для нас это знак, и мы лезем в голубиные гнезда, берем молодняк, пары по две на брата, и молча уходим со двора. А дед Никита как сидел, так и сидит, как будто прирос к своему пеньку, даже прокуренной бородой не пошевелит. А борода у него знатная, лопатой, и желтая от махорки.
Однажды Семен рассказал, как дед Никита разговорился. А дело было так. Раньше на подводах возили в город зерно, мясо, шкуры, продукты, разные товары; зимой – по зимнику на санях, летом – по наезженной полевой дороге. И вот дед Никита вместе с Семёном сдали зерно в приемный пункт, передохнули и по санному пути направились в сторону своей деревни, а расстояние для лошадей немалое, около сотни километров. Только отъехали они от города как их нагнали двое верховых, и один из них крикнул: «Эй, дед, вы откуда едете?» Дед, как на грех ответил: «Из городу». «Ну и хрен тебе в бороду» - прокричал парень, хлесть коня плеткой и был таков. Семен говорит, всю дорогу смеялся, закрывшись воротником тулупа, чтобы отец не видел, а тот весь остаток пути матерился и приговаривал: «Вот подлецы, а, вот подлецы, сволочи, засранцы». Наверное, его возмущению не было предела, раз он так разговорился. Семен, сам уже будучи стариком, рассказывал эту историю и смеялся. Говорит: «Первый раз сам услышал, как отец разговаривает».
А однажды с Семеном произошел такой случай. Как раз были ноябрьские праздники, Евдокия на три дня уехала к дочери в город, а Семен с Анатолием остались дома одни. Ну что, взяли бутылку водки, выпили в честь праздника, показалось мало, а денег на другую нет. Что делать? И тут Семен вспомнил: «Слышь, Толькь, мать где-то бражку заводила, недели две назад, она куда-то еë спрятала, поди, уже готова?». Давай они с Анатолием искать флягу с брагой: весь дом перерыли, и на чердаке, и в сеновале, и в кладовке. Ну нигде нет! Тогда Семён говорит: «Может, в подвале, в картошке, а ну-ка, Толькь, слазь». Тот полез, раскопал картошку, точно – фляга с брагой там. Недолго думая, набирают полное эмалированное ведро бражки, а туда ведро холодной воды из колодца, чтобы тетя Дуся не заметила потом. Всё, как было, замаскировали и начали гужевать.
Но они не предусмотрели, что праздников-то три дня, а браги набрали всего ведро. Бражка, конечно, была крепкая, но за день отец с сыном ведро опустошили, а на утро проснулись с чугунными головами, а опохмелиться нечем. «Эх, дураки мы, дураки, - сказал Семен, - надо было два ведра набирать! Что теперь делать? Толькь, а ну, давай, лезь, еще наберем». Анатолий послушно полез, у него тоже башка трещала. Ну, в общем, набрали они ещё ведро браги, туда снова ведро сырой воды, так же замаскировали, и давай пить. Не успели они выпить по третьей кружке, как у Семена забурлило в животе. «Ой, Толькь, наверно я сейчас обсерусь», - и бегом в сарай. Только он пошел обратно в дом, как навстречу ему сломя голову пронесся Анатолий, на ходу расстегивая ширинку. В общем, их прохватила такая дрисня, что к вечеру они уже лежали пластом. Чем только они не пробовали заглушить свой недуг – ничего не помогало.
А на утро вернулась из города Евдокия. Смотрит: лежат еë домочадцы пластом, аж пожелтели. «Да что это с вами, чего вы нажрались?» - спрашивает. Но они молчали, предчувствуя надвигающуюся беду. Тетя Дуся отхаживала их два дня. Кое-как они, поднявшись, первое что попросили, так это выпить: «Дуся, дай что-нибудь покрепче, мы же, считай, с того света вернулись. Если бы не ты, точно бы умерли». И Семен пустил скупую слезу из своего единственного глаза. «Ладно, - сжалилась Евдокия, - идите управьтесь по хозяйству, а я что-нибудь найду». Они покорно пошли в сарай, кое-как почистили в хлеву, накормили скотину и возвратились в дом, а там на столе стоит ковш с бражкой. «Ладно, пейте, а то ещё помрете». Они как увидели брагу, сразу в один голос заголосили: « Не надо, не надо брагу, нам плохо будет».
«Ага, когда это вам плохо было от бражки, алкаши несчастные?»
А потом Евдокия, по-видимому, смекнула, что что-то тут не так, чтобы эти двое отказались от бражки, да они гущу иногда ели. А ну-ка, ну-ка, она отхлебнула прямо из ковша, выплюнула на пол, глаза ее налились кровью, а Семен с Анатолием втянули больные головы в плечи, Боже, что сейчас будет! Евдокия схватила ковш, плеснула Анатолию прямо в лицо, а Семену со всей силы влепила пустым ковшом звонкую оплеуху, да так, что стеклянный глаз вылетел. «Ах, вы растудыт твою мать, я приготовила бражку, хотела выгнать самогону к Новому году, а вы сволочи, пьянчужки поносные, чтоб у вас руки отсохли, чтоб вам рот скривило!»
И еще она долго бушевала и причитала. Но Семен хорошо знал свою жену, еще немного поорет и перестанет. Так оно и случилось, постепенно Евдокия успокоилась. «Садитесь жрать, дармоеды». Они покорно сели за стол и начали хлебать борщ, всухую, тихие и смиренные, как никогда. А тетя Дуся радовалась аж три дня, что в доме мир и порядок. А на четвёртый.....
ДЕТИ
Наконец-то наступила весна. Всё ожило, весело переливаясь, журчали прозрачные ручейки; невидимые, в небе пели жаворонки. Солнце светило ярко, на склонах невысоких холмов с южной стороны появилась первая зелень. Там уже степенно паслись коровы, овцы, а ягнята, как дети, носились рядом с мамками, подпрыгивали, кувыркались, весело блеяли.
В проснувшемся ауле дети с утра до ночи гоняли самодельный, скатанный из шерсти мяч, играли в асыки, одним словом, после зимней спячки вместе с природой зашевелилось всё живое вокруг.
Семилетний Кайрат, чернявый, шустрый мальчонка, сын главы рода Кульсарина вместе со сверстниками целый день играл в нехитрые аульные детские игры. Но ему надоело играть в одно и то же. И однажды он решил узнать, куда убегает этот шустрый ручеек. Бабушка говорила, что все маленькие ручейки стекаются в одну большую реку, а река эта входит в большую-большую воду, которой конца-краю нет, и даже птицы не могут долететь до противоположного берега, не отдохнув в пути. Эта большая вода называется море.
Маленький Кайрат думал, что вот там, за сопками, и есть та река, а за ней и большая вода – море. Мальчуган медленно побрел вдоль ручья, а тот, изгибаясь и журча на перекатах, уходил всё дальше и дальше. Потом Кайрат бросил в ручей сухую корку коровьего помета, она весело закружилась и понеслась, увлекаемая прозрачной водой. Ручей уходил вниз под горку, в него уже впадали более мелкие ручейки, а его, Кайрата, ручей становился все шире, глубже и стремительнее. Кайрат гордился этим, до его детского сознания четко дошло, что вот так и появляются большие реки. Ещё немного пробегу, вон за тот холм, решил Кайрат, а там может и река появится.
Весело насвистывая, мальчуган уходил все дальше и дальше от аула. Он не заметил, что диск солнца уже коснулся горизонта. А южные ночи наступают очень быстро. Казалось бы, только что солнце висело на горизонте, оглянулся, а его уже нет, наступили сумерки. Кайрат с сожалением посмотрел на ручей: «Ладно, в следующий раз мы с тобой доберемся до реки, а сейчас беги сам». Мальчик оглянулся назад: аула уже видно не было.
Очень быстро сгущались сумерки. Он пошел вдоль ручья назад, было очень тихо, слышно было только журчание ручейка. Пройдя шагов двести, мальчик наткнулся еще на один ручей, он его перешагнул, затем появился еще один, и тут Кайрат задумался: «А где же мой ручей?» В темноте все они были одинаковыми. «Наверное, вот этот»,- подумал Кайрат и весело пошел вдоль него. Стало совсем темно, резко потянул холодный воздух, мальчик испугался, он понял, что заблудился. Было холодно, он весь продрог, шел, уже не разбирая дороги, иногда пересекая мелководные ручьи, промочил ноги.
И тут Кайрат заплакал, плакал тихо, размазывая слезы кулаками. Потом на пути оказался большой валун, он чернел в звездной ночи, казался огромным лежащим чудищем. Кайрат подошел к валуну с подветренной стороны, укрылся от ветра, камень уже успел остыть. Ребенок сидел на корточках за камнем и горько плакал. Он не знал, куда идти, что с ним будет. Страха не было, был леденящий душу маленького человечка холод, он ничего уже не хотел, хотел только к бабушке в тепло.
Так он сидел и лил горькие слёзы. Вдруг он услышал в тишине как будто шаги. Наверное, показалось, подумал мальчик. От страха он затаил дыхание, прислушался: точно, кто-то медленно подходил туда, где затаился он, Кайрат. Теперь уже не холод, а жуткий страх сковал маленького Кайрата. Он весь сжался, вобрал голову в плечи, приготовился к смерти. Шаги приблизились в плотную. Кайрат уловил теплое дыхание на своей шее, затем что-то влажное, теплое капнуло ему на шею и потекло за воротником рубашки по спине. Преодолевая страх, он медленно поднял голову: рядом стоял тай, маленький жеребенок, от него пахло конским потом, молоком, он весь дрожал мелкой дрожью. Кайрат обнял голову жеребенка руками, прижал её к себе и слезы сами собой потекли из глаз. Но это уже были слезы радости. Рядом был такой же ребенок, как и сам Кайрат. Наверное, тоже отбился от мамки и заблудился. Мальчик гладил теплое тельце и понял, что жеребёнок тоже плачет, потому что глаза у него были влажные. Для Кайрата сейчас роднее существа не было. И так они, согревая друг друга, пошли, и им вдвоем уже совсем не было страшно.
Через некоторое время Кайрат услышал лай собак, потянуло дымком от кизяка, значит, рядом был аул. Пройдя еще несколько шагов, он услышал шум голосов, топот копыт, зычный голос отца. Это бабушка, обеспокоенная отсутствием Кайрата, подняла на ноги весь аул. Верховые с собаками собрались уже ехать в степь, искать мальчика. Как кто-то закричал: «Кульсарин, Кульсарин, вон твой джигит пришел, смотри! И скакуна привел». А Кайрат стоял рядом с замухрышкой-жеребенком и уже не боялся отцовской плётки, он нашел себе самого лучшего друга и теперь они долго-долго будут вместе.
НА РЫБАЛКЕ
Как-то один раз надумали мы с моим соседом и другом Сашкой поехать на рыбалку. Ну, что особенного, поехали и поехали. Но всё дело в том, что была уже середина ноября, и по утрам наша речка Бурлучка покрывалась тонким ледком, а в балках и лощинах уже лежал снежок. К холодам рыба собирается в глубокие места, в плёсы, вот мы и решили затянуть в таком месте бредень.
Собрались мы основательно: взяли бредень метров на десять, резиновые болотные сапоги, мешки под рыбу и, конечно, бутылку водки. Загрузили все в маленький газик и поехали на Уварово. Нашли хорошее место, разделись до майки и трусов, надели болотные сапоги, растянули бредень. Сашка пошел на ту сторону плёса, а я остался на этой. Края плёса были усыпаны небольшими валунами, а дно глинистое, скользкое.
Мы начали тянуть бредень, медленно продвигаясь по скользкому берегу, постоянно спотыкаясь и чертыхаясь, как вдруг Сашка поскользнулся и ушел по самое горло в ледяную воду. Ну, гад, ладно бы сам пошел, так он и меня потянул за собой. Не прошло и мгновения, как мы оба оказались чуть ли не до подбородка в воде. «Что будем делать?» - крикнул мне Сашка. «Как что, будем тянуть», - отвечаю. «Да ты с ума сошел?» - « Нет Санёк, давай тянуть, всё равно уже искупались».
И мы решили тянуть бредень дальше. Плес был шириной метров восемь и в длину тоже небольшой, не более пятнадцати метров. И мы стали подтягивать бредень к берегу. Сначала мы думали, что он зацепился за корягу, поднажали и кое-как вытащили мотню бредня на берег. Боже мой, я сколько живу, никогда не видел, чтобы за один раз из нашей речки можно было вытащить столько рыбы. Сетка бредня была мелкая, двухперстная, а рыбы в нее набилось разной, и крупной, и мелкой, столько, что наших двух мешков мало было, чтобы забрать её всю. Мелочь стала выпрыгивать через ячейки, а крупная вся оставалась в мотне. Здорово. Мы с Санькой забыли, что побывали в ледяной воде, но быстро опомнились, выскочили на берег и бегом к машине, на ходу снимая с себя одежду и сапоги.
В машине мы, прежде всего, переоделись в сухую одежду, потом налили по полному стакану водки, с удовольствием выпили, я включил двигатель, в машине стало тепло и уютно. Мы разлили остатки водки в стаканы, еще раз выпили. по телу разлилось приятное тепло и мы уже забыли, что всего полчаса назад побывали в ледяной воде.
Потом мы вдвоем кое-как вытряхнули рыбу из бредня, крупную собрали, а мелочь побросали в воду. Тогда мы поймали два мешка рыбы. Когда мы привезли рыбу домой, нам не поверили, сказали, что мы ее купили. А главное, побывав в ледяной воде, мы даже не простудились.
БАРКАС
После войны наш колхоз получил жеребца-производителя для улучшения конского стада. Жеребец был по какой-то причине списан из кавалерийской части. Я ещё в школу не ходил, но хорошо помню этого жеребца-красавца. Был он абсолютно белым, высоким, тонконогим, с маленькой умной головой на длинной шее. В колхозе в то время было много лошадей, но они были совсем другой породы, большие, сильные и очень выносливые, совсем не похожие на Баркаса.
Брат бабы Лизы, дядя Петя, как раз в то время работал заведующим конефермой, и мы, дети, часто ходили смотреть, как Баркаса выводят на прогулку. Несмотря на то, что он был обучен для верховой езды, садиться на него никому не дозволялось, даже заведующему фермой, так его берегли. Дядя Петя, бывало, выпустит его из стойла в конюшне, так он сразу на двор не выйдет, сначала осмотрится, поведет огненным глазом, потом ударит передним копытом и только тогда выйдет на прогулочный двор, где мирно жуют сено колхозные лошади. А мы прилипнем к изгороди и часами наблюдаем, как носится по двору белый жеребец Баркас. Для нас это было завораживающее зрелище. По загородке, подняв голову, распустив белую гриву, распушив хвост, высоко поднимая ноги, резвой иноходью не бегает, а плавает Баркас. Может, из-за сходства с настоящим баркасом и дали жеребцу такое имя.
Этого жеребца любили не только мы, пацаны, но и взрослые мужики. Они часто рассказывали друг другу, как Баркас огуливал местных кобылиц, смеялись. Мы еще не понимали, но знали точно, что нашего баркаса любят все. Мы, кто был поменьше, очень завидовали старшим ребятам, потому что некоторым из них дядя Петя доверял чистить жеребца скребком, а иногда даже купать теплой водой.
Так в колхозе у нас Баркас прожил семь лет, а потом неожиданно заболел: перестал жевать сено, даже к любимому лакомству всех коней на свете – овсу - перестал притрагиваться. Ветеринарный врач, покойный Гребенюк Александр, признал у Баркаса туберкулез легких, и от него необходимо было избавиться срочно, чтобы не заразить других лошадей. Легко сказать избавиться, а кто на него поднимет руку? Председатель пытался заставить кое-кого из мужиков пристрелить Баркаса, но никто не согласился. Тогда ему в конце конюшни пристроили специальное стойло, поместили его туда и бригадир никого к нему не подпускал, сам кормил, поил, ухаживал за ним. Но Баркас таял на глазах: из стройного, резвого покорителя кобыльих сердец он превращался в костлявого и немощного старика. Мы все же иногда проникали в конюшню к его стойлу, приносили с собой корочку хлеба с солью, которую он так любил когда-то, подносили прямо к его губам, но он вздыхал и медленно отворачивался, даже не притронувшись. Нам иногда казалось, что из глаз его текут слезы.
Никто еще не заглянул в душу животного. Может, он так же, как человек, вспоминает свою конскую жизнь, и что у него там на душе, никто никогда не узнает.
Баркас дожил до весны и умер. Увезли его на скотомогильник, но хоронить в общей яме не стали, а вырыли неподалеку на пригорке большую яму и там похоронили. А дядя Петя поставил на холмик деревянный крест и прибил табличку «Баркас, 1952 год».
Хотите верьте, хотите нет, но нам, ребятишкам, тогда казалось, что Баркас вовсе и не конь, а человек, он только говорить по человечески не мог. Мы потом часто ходили навестить Баркаса и клали на его могилку полевые цветы, которые росли рядом. Баркаса уже давно нет, но в колхозном стаде еще долго встречались белогривые красавцы, его потомки.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
5 мес. 2 нед. назад #28797
от RevigeOr
RevigeOr ответил в теме Как сделать свой азартный сайт
<a href=https://market-casino.ru/articles/104-v-kakie-igrovye-avtomaty-igrat>в какие игровые автоматы лучше играть
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- makarovv65
-
 Автор темы
Автор темы
- Не в сети
- Завсегдатай
-

Меньше
Подробнее
- Сообщений: 175
- Спасибо получено: 20
5 мес. 2 нед. назад #29126
от makarovv65
makarovv65 ответил в теме Как сделать свой азартный сайт
Пожалуйста, удалите отсюда эту хрень......
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- makarovv65
-
 Автор темы
Автор темы
- Не в сети
- Завсегдатай
-

Меньше
Подробнее
- Сообщений: 175
- Спасибо получено: 20
5 мес. 2 нед. назад #29127
от makarovv65
makarovv65 ответил в теме Константиновская волость
Память о престольном празднике Константиновки
Лета Господня 1900-го заложен был храм в селе Константиновка, во имя Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И в лето 1904-е освящён храм сей, во благолепии своём став духовным центром всей волости.
Воздвигнут же он был трудами усердными и на средства, дарованные самим государем-императором, в знак попечения о народе. Первым священником и пастырем назначен был выпускник духовной семинарии отец Михаил Михайлович Мякишев, которому вверено было хранение паствы.
С тех пор установился обычай: в день престольного торжества, 28 августа, сходился народ со всех сторон. Служба храмовая соединялась с радостью земной: ярмарками, братскими трапезами, встречами родов и соседей. День сей стал днём села и праздником его единства.
После смут и гонений память о святом храме и о престольном дне померкла. Но в сердцах сохраняется память о том, что село Константиновка родилось и крепло под покровом Успения Богоматери.
Лета Господня 1900-го заложен был храм в селе Константиновка, во имя Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И в лето 1904-е освящён храм сей, во благолепии своём став духовным центром всей волости.
Воздвигнут же он был трудами усердными и на средства, дарованные самим государем-императором, в знак попечения о народе. Первым священником и пастырем назначен был выпускник духовной семинарии отец Михаил Михайлович Мякишев, которому вверено было хранение паствы.
С тех пор установился обычай: в день престольного торжества, 28 августа, сходился народ со всех сторон. Служба храмовая соединялась с радостью земной: ярмарками, братскими трапезами, встречами родов и соседей. День сей стал днём села и праздником его единства.
После смут и гонений память о святом храме и о престольном дне померкла. Но в сердцах сохраняется память о том, что село Константиновка родилось и крепло под покровом Успения Богоматери.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- makarovv65
-
 Автор темы
Автор темы
- Не в сети
- Завсегдатай
-

Меньше
Подробнее
- Сообщений: 175
- Спасибо получено: 20
5 мес. 2 нед. назад - 5 мес. 2 нед. назад #29128
от makarovv65
makarovv65 ответил в теме Константиновская волость
Биографическая справка — священник Михаил Михайлович Мякишев
Михаил Михайлович Мякишев родился в 1879 году в крестьянской семье в селе Починки Лукояновского (ныне – Лукьяновского) уезда Нижегородской губернии .
По окончании духовной семинарии он был рукоположён во священника . В последующие годы нес пастырское служение в Казахстане, в частности, был настоятелем Никольской (Зенковской) церкви в городе Петропавловске, Акмолинской области .
В годы репрессий 1937 года он был арестован по обвинению по статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация) и 14 ноября того же года расстрелян. В 1989 году был реабилитирован Постановлением Президиума Верховного Совета СССР (по данным прокуратуры Северо-Казахстанской области) .
В церковной памяти он почитается как священномученик. Дни его памяти установлены 4 августа (22 июля по старому стилю) в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской .
Да хранит Господь село Константиновку и всех живущих в нём.
Да будет память о храме и его первом пастыре — священномученике Михаиле — светильником для будущих поколений.
И да покрывает Пресвятая Богородица это место Своим честным омофором во все дни.
Михаил Михайлович Мякишев родился в 1879 году в крестьянской семье в селе Починки Лукояновского (ныне – Лукьяновского) уезда Нижегородской губернии .
По окончании духовной семинарии он был рукоположён во священника . В последующие годы нес пастырское служение в Казахстане, в частности, был настоятелем Никольской (Зенковской) церкви в городе Петропавловске, Акмолинской области .
В годы репрессий 1937 года он был арестован по обвинению по статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация) и 14 ноября того же года расстрелян. В 1989 году был реабилитирован Постановлением Президиума Верховного Совета СССР (по данным прокуратуры Северо-Казахстанской области) .
В церковной памяти он почитается как священномученик. Дни его памяти установлены 4 августа (22 июля по старому стилю) в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской .
Да хранит Господь село Константиновку и всех живущих в нём.
Да будет память о храме и его первом пастыре — священномученике Михаиле — светильником для будущих поколений.
И да покрывает Пресвятая Богородица это место Своим честным омофором во все дни.
Последнее редактирование: 5 мес. 2 нед. назад пользователем makarovv65.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Время создания страницы: 0.261 секунд