- Вы здесь:
- Главная /
- Форум /
- Саумалколь и Айыртауский район /
- Населённые пункты /
- Лобаново /
- Текст книги Антонова В.В. "Если останетесь живы ..."
Текст книги Антонова В.В. "Если останетесь живы ..."
Антонов В.В. Если останетесь живы… - Алма-Ата, 1962. – с.7-32.
Часть первая
Но понял взор:
Страну родную в край из края.
Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор...
С. Есенин, «Гуляй-поле».
Третью ночь станицу томило гнетущее безмолвие. Здесь, в старом казачьем селе Лобанова, была затоптана последняя искра кулацкого восстания.
Когда красные подошли к станице и ударили из пулеметов, жена Тихона Федоровича упала с перепугу на колени перед образами и больше не поднялась. Шальная пуля влетела в окно и застыла у нее в затылке. Похоронил старуху Тихон Федорович, и такая тоска навалилась на него, что готов был по-собачьи выть, если бы полегчало.
Есть у Тихона Федоровича сын, Семка, но не хочется и думать о нем. Увязался за богатыми казаками да и запропал где-то, оставив в отцовской душе смрадный след.
Жаловались на Семку одностаничники, когда бои с красными полыхали еще под Кокчетавом: лют стал, старикам рвет бороды и револьвером пользуется по-бандитски. Говорили и красные об этом. Перед вечером были они. Обыскали в доме, ушли во двор. Командир их спрашивал Тихона Федоровича: где сын?
— Не знаю,— ответил Тихон Федорович, еле шевеля губами от страха.
Командир, молоденький, с белым пушком усов под коротким носиком, хитро щурил на Тихона Федоровича не по годам холодный глаз,
7
- А мы знаем У белых. Сам полковник Пелымский величает его Семеном Тихоновичем, а казаки кличут живоглотом. Слыхал дед?
Еще ниже опустил Тихон Федорович свою седую голову и ответил, как думал:
— Слыхал... Но живоглотом я его не родил... Сам сделался... И к белым пристал не по моей указке...
Командир скрутил цигарку, закурил и долго рассматривал свой кисет. Потом сказал:
— Сын твой, дед, вместе с полковником прячется где-то у богатых киргизов. Но мы их словим всех и уберем
"подальше, чтобы не путались под ногами. Нам нужно дальше шагать...
Со двора пришли красноармейцы и доложили командиру: ничего не нашли. В сарае — конь и пара овец...
— Так вот, дед,— командир встал. Встал и Тихон Федорович, словно поднятый этими словами чужого человека. Они глянули друг другу в глаза — командир просто, но жестко, старый казак — испуганно и доверчиво.— Так вот, дед,— повторил командир,— нам нужны кони, но мы тебя без коня не оставляем. Помни! Но если узнаем, что ты связался с сыном,— пеняй на себя...
Красноармейцы ушли, а Тихон Федорович до самой ночи просидел в избе, крепко сжимая в ладонях опустошенную голову. Нет жены, сын — живоглот. Единственный сын, которого он, Тихон Федорович, назло богатым казакам вывел в офицеры. Куда же теперь? Тяжело, и поговорить не с кем...
Накинув на плечи полушубок, Тихон Федорович вышел за ворота. Тихо. Вдоль улицы теснились темными стылыми глыбами дома. И ни души. Тоскливо и боязно от этой непривычной тишины...
За курятником скрипнул плетень и что-то глухо ударилось о землю. Всполошились куры и примолкли. Тихон Федорович обмер, кое-как втиснулся во двор и прикрыл за собой ворота. Еле дыша, прирос спиной к их накаленному морозом дереву. Скрипнул снег, кто-то шагнул. Постоял и опять шагнул. Старик впился слухом и глазами в воровской скрип шагов...
От курятника к сеням метнулся человек и пропал в их тьме. Сердце Тихона Федоровича больно екнуло: сын!.
Не сбиваясь с обычного шага, который так был известен семье, Тихон, Федорович вошел в избу.
8
— Кто?—слабо окликнул из избы знакомый голос.
— Я,— ответил Тихон Федорович и первый раз за это суматошное время вошел в избу по-хозяйски уверенно, без боязни.
При мутном свете лампадки он оглядел сыча. Семен жался спиной к печке, дрожа всем телом, как озябший боровок. Голодные глаза его жгуче поблескивали, а лохматая голова то и дело вздрагивала, словно у паралитика.
Тихон Федорович тяжело опустился на лавку. Она, пружинясь, скрипнула. От непривычно громкого звука даже вздрогнул сам Тихон Федорович, а Семен сунул руку в карман полушубка и впился глазами в черный квадрат окна.
Тихо на улице. Только иной пес, словно отчаявшись, вдруг бросал в промозглое от мороза небо истошный вой и умолкал.
— Зачем пришел?— спросил Тихон Федорович и уперся в сына тяжело налитыми усталостью глазами.— Полстаницы из-за вас осиротело... И мать убили...
Семен дрогнул плечом, медленно пропустил сквозь крепко стиснутые зубы тяжелый вздох.
— Вчерась старика Кирьянова похоронили.— У Тихона Федоровича в горькой усмешке нервно передернулась щека.— Когда красные подошли к станице, он с печи слез, взял вилы и пошел помогать вашим. Его и пристукнули, как таракана. С такой помощью, небось, думали побить коммунистов?
Семен перестал дрожать, ожег отца злым глазом.
— Побьем!— со свистом выдавил он из себя.— Сами умрем, но их переведем!.. Лапотники вместо Романовых? Нет, отец!.. Из-за границы помогут нам, если сами не одолеем... Из Китая вернется атаман Щербаков.
— Теперь уже поздно,— проговорил Тихон Федорович.— Никакая заграница вам не поможет. Ей красные тоже крепко по шее надавали. А вы зазря кровь человеческую льете, мутите головы мужикам...
Семен фыркнул, оторвал было спину от теплой печи и снова прижался к ней. Тихон Федорович поднял голову, с минуту молча рассматривал чутко настороженную фигуру сына.
— Чего вы думали сделать со своим Пелымским?— спросил он,— Разогнать Советы в губернии? А дальше?
9
Красные вон хватили по станице из пулеметов,— и войско ваше кто куда.
Семен прошелся у окна. Оттаявшие валенки противно зачавкали.
— Отец, заседлай Серка. Я уйду в горы к киргизам. Полковник ушел к ним, а у меня коня убили... И дай еды.— Семен остановился перед отцом и секанул воздух ладонью.— Мы начнем снова!
Тихон Федорович медленно поднялся, выпрямился перед сыном и, почти касаясь его лица концом гневно трясущейся бороды, тихо спросил:
— Значит, мало еще мужицкой крови пролили?.. Я тебя, варнака, учил на последние гроши, а ты из офицеров в убивцы направился? Тебе-то, паршивцу, что сделали партийцы?.. Или деньги княгини Курбатовой замутили голову? Так она, стерва, сколь годов обирала нас, казаков... И тебе, дерьму, я с ее завода покупал коня, слышишь, аль нет?
Ненадолго в избе наступила жуткая тишина.
— Седлай коня!— властно бросил Семен и вытянул правую руку из кармана полушубка.
В тусклом свете лампадки холодно блеснула вороненая сталь нагана.
— Ну?..
Тихон Федорович молча стоял перед сыном и пристально смотрел ему в глаза, почужевшие и недобрые. Семен прерывисто дышал, постукивая зубами. Рука его дрожала, и от этого черный глазок ствола нагана трепетал между глаз Тихона Федоровича, словно не зная, на котором из них остановиться.
— Стервец!—с присвистом бросил Тихон Федорович и схватил сына за руку.
В запястье хрустнуло. Семен глухо охнул и выпустил наган. Он стукнулся об пол, и в избе грохнул выстрел, -Этот неожиданный громкий звук совсем обессилил Семена, и он, безмолвный, обмяк в крепких руках отца.
Тихон Федорович, нажимая коленом на спину сына, стянул ему руки сорванным со стены полотенцем, кушаком — ноги и встал. Потом, вспомнив, нагнулся, поднял с пола наган.
— Значит, и отца родного хотел прибить?— спросил он, потряхивая наган на широкой ладони.— Кузьму Мельникова расщелкал — и детей не пожалел... А их вон
10
четверо осталось... Старику Ладыжкину полбороды выдрал... На красных заставлял идти под Айртавом. И в кого ты такой поганец уродился?..
Тихон Федорович сунул наган в карман штанов, перешагнул через сына и потянул с печи полушубок.
— Тятя,— простонал Семен.— Тятя!.. Обернувшись у порога, Тихон Федорович с минуту
молча смотрел на судорожно вздрагивающее тело сына, потом сказал:
— Раньше об тяте думать надо было...— И вышел.
2
Семен слышал, как, хлопнув калиткой, вышел за ворота отец, потом шаги его проскрипели мимо окна,— и все стихло. Мертвая тишина вырвала Семена из минутного оцепенения. Напружинившись, он оторвался от пола и сел. У дверей должен лежать топор, отец всегда заносил его на ночь. И сейчас он стоял там, прислоненный к стене новым, еще не обтертым березовым топорищем, В жидком свете лампадки льдом поблескивало остро отточенное лезвие. Семен ползком, на локтях, добрался до топора, повернулся к стене спиной и осторожно нащупал руками его холодную сталь. Прижав топор обухом к стене, он начал тереть о лезвие тугой узел полотенца. Чтобы не уронить топор, делал это осторожно и сильно, напрягая до боли и внимание и мышцы рук.
В голове же виделось: отец не спешит... Вот он поравнялся с церковью... Прошел ее... Начал подниматься на поповское крыльцо... Заговорил с часовым... И в это мгновение узел ослабел. Еще несколько движений — и топор был в правой руке. Перестало пойманной птицей биться сердце. Ну, пусть теперь возьмут эти лапотники хорунжего Кузьмина!..
Удар — и освободились ноги. Одним взмахом Семен нахлобучил на голову папаху, сжимая в руке топор, выскочил во двор.
Серко испуганно всхрапнул, но, почуяв хозяина, сыто зачмокал губами. Некогда было отвязывать повод, Семен обрубил его и вывел коня во двор. «Куда бежать?»
Серко резво перемахнул через жерди забора, в ого род, и легко понесся по приглаженному ветром снежному насту к озеру.
11
А оттуда из серой обожженной морозом пустыни замерзшего озера, на станицу с жутким посвистом заторопился буран. И в нем скоро, как клок подхваченного ветром сена, исчез одинокий всадник.
Скользя и шарахаясь на неровностях льда, конь резко нес хорунжего вперед.
3
Командир в поповской горнице пил с красноармейцами чай. Увидев вошедшего Тихона Федоровича в распахнутом полушубке и без шапки, отодвинул полное блюдце в сторону, встал.
— Что?
— Сына... Семку спутал... У меня он,:—глухо проговорил Тихон Федорович и, спрятав лицо в жестких, как застарелая сыромятина, ладонях, зарыдал жутко, с надрывом. Плечи его гак тужились под стареньким полушубком, что, казалось, он трещал.
-- Петренко, Краснов— со мной!..
Тихон Федорович ткнулся в угол, когда мимо, гремя оружием, пробежали красноармейцы. Потом, услышав стук копыт, вышел на улицу. Брел по ней безучастно, словно с кладбища, оставив там в мерзлой земле свою душу.
Одинокий выстрел хлестнул по сердцу. Тихон Федорович обмер: выстрел прозвучал со стороны его дома. Неужели Семку пристрелили? Без суда, без допроса?..
Мимо проскакали конные красноармейцы. Они кричали и ругались. Попадись им сейчас чужой — и блеснувшая наотмашь шашка секанет по шее. Осточертела им драка с кулачьем, ох, как осточертела!..
..В завихрившейся по улице поземке лохматый, в расстегнутом полушубке, бежал Тихон Федорович домой. А когда добежал до распахнутых настежь ворот, вошел во двор, а потом — в дом и увидел на столе разрубленные кушак и полотенце, перекрестился на образ и выдохнул:
- Ну, слава богу!..
Повертел в руках годные теперь только на портянки полотенце и кушак и сурово сказал:
— Попортил добро, варнак!..
12
4
С одного взгляда понял командир, что случилось в избе угрюмого казака. Не понимал только: чем мог разрезать отчаянный хорунжий свои путы? Дожидаться хозяина некогда было. Приказал нескольким красноармейцам скакать прямо по дороге, к лесу, с остальными двинулся через огороды на озеро, куда вел еле заметный в вихрях бурана след.
Скоро отряд след потерял, покружился по озеру, насквозь продуваемому злющим ветром, и повернул обратно. Легко можно было заблудиться в буране, а где-то рядом таились недобитые шайки кулаков. Они злы, разорвут...
Вернулся ни с чем и первый отряд красноармейцев: страшен был густой лес, а красноармейцев было десять, десять молодых парней.
5
Ускакав от станицы верст за пять и вогнав Серка в пот, хорунжий Кузьмин стал прежним: злым, сильным и смелым. Выл и свистел ветер, а хорунжий сидел на коне подбоченившись, сжимая в руке топор, и пел. Вокруг был мрак, ожесточенный бураном, прожженный морозом. Уже тяжело, по брюхо утопал в снегу конь, а беглец пел, тихо и тоскливо:
Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке
Серый селезень плывет...
А сердце холодело от мысли: куда теперь? И одолевала горькая думка: а как теперь Настя?.. Ведь у нее скоро будет ребенок, а они не венчены. Что сделают с ней красные, когда узнают, что брюхата она от хорунжего Кузьмина, верного дружка полковника Пелымского?
Бодрился беглец, а душа ныла, как расковыренная болячка: отца красные, наверное, расстреляли... Кто похоронит его?.. Хотя и врагом он оказался, но все-таки отец... И Настя, в случае чего, могла бы с ним жить...
Кому мои кудри,
Кому мои русы
Достанутся расчесать?
13
Умолк хорунжий, и опять черной пропастью разверзлась неизвестность: куда теперь? Ведь кругом — неприглядная мгла и мороз...
Серко, тяжело поводя боками, забрел в густой ельник и остановился. Семен стряхнул с себя рухнувший с ветвей снег и заскрипел от боли зубами: хотелось жить, хотелось есть, нежить Настю, пестовать ребенка, а где теперь эта радость жизни?..
Скрипел и стонал лес, злым бесом метался по нему ветер, замораживая и засыпая все. Всадник ехал, прикрыв глаза и опустив голову, надеясь на чутье коня. На коленях его лежал топор.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
6
Всю ночь конь плутал по лесу, словно чуя: покидать его боязно. Он устал и легко вязнул в сугробах, и всадник уже обмяк на нем, будто опьянев. Но и стоять на месте, среди стонущих берез и сосен, тяжко было: донимал мороз. И Серко упрямо стремился вперед, где все-таки должно было быть тепло человека и корм.
Угарную удаль давно сменило равнодушие: Семен держался на коне по цепкой казачьей привычке. Варежки остались в избе отца и коченеющие руки он до локтей прятал в рукавах полушубка. Льдом взялись пимы, зябли ноги и отказывались повиноваться. Согревая, Семен болтал ими, когда конь шел ровно.
Хотелось есть и хотелось плакать. Почему он' один этой буранной ночью плутает в лесу? Еще недавно он был с казаками, такими же лютыми, как и он. Они уходили от лапотников, часто сшибаясь с ними то в короткий перестрелке, то в отчаянной рубке, когда шашки, кажется, сами полосовали уже зарубленных. Под самой станицей на дорогу вдруг вылетела из оврага тройка резвых, запряженная в сани. А на санях был пулемет и за ним гнулся к прицелу лихой пулеметчик.
И сзади была смерть, и впереди она скалилась в зубастой усмешке. Казаки, ломая в скрежете зубы, вороньем бросились на пулемет. И он не стеганул очередью, захлебнувшись тремя плевыми выстрелами. Хорунжий Кузьмин первым достиг саней и остервенело хватил шашкой по уткнувшейся в передок голове ездового.
14
Пулеметчик, конопатый мальчишка, рвал из-под безголового товарища винтовку и смотрел, стервец, прямо в глаза офицеру, будто заневоленный коршун. Искромсали бы его, красноголового, казачьи шашки, да офицер рявкнул:
— Не трожь!—И конопатому дьяволенку:—Стреляй по своим, мать!.. Засеку!..
И занес хорунжий шашку над головой мальчишки. А к нему на выручку рвался отряд красных и леденящий их крик: а-а-а!..
Казаки дали залп, другой. Красные умерили пыл, а хорунжий бесновался в неистовом мате над покорно возившимся у пулемета конопатым. Тот копался в замке «максима» и, казалось, глух был к свистящей над головой смерти.
- Стреляй, стерва!..
«Максим» рыгнул свинцом по своим. Никто из них не кувыркнулся с коня, но взбодрились казаки и рванулись было с шашками на красных, да осадил их офицер:
— Назад, мать вашу!..
И тут-то, смекнув момент, конопатый резко повернул «максим» и хватил из него по казакам. Семеро из них сползли с седел в истоптанный осатаневшими конями снег. Пока офицер сумел осилить в себе оторопь, свалилось еще пятеро.
Прямо с седла прыгнул хорунжий в сани. Отбросил прочь с раздвоенной головой конопатого и, припав к «максиму», крикнул ближайшему казаку:
— Бери вожжи!..
Так они, тринадцать оставшихся в живых станичников и офицер, сдерживая красных огнем пулемета, докатились до станции Лобановской. Здесь у казака-коневода красные подстрелили офицерского Белка, бодро пронесшего его из далекой Турции до родных краев, через временную власть и другие, еще непонятные, но рьяно митинговавшие власти. Казаки не тронули никого. И их никто не зацепил. Только вот большевики взбудоражили душу...
Оставив в заслоне отряд Кузьмина, полковник Пе-лымский шибко подался впереди отступавших, шепнув хорунжему, что придется подаваться на зимовки к богатым киргизам, где есть свои. И там они встретятся, если «бог поможет».
15
7
Серко остановился, вздохнул всем нутром и опустил спину: мол, дальше шагать не стоит. И сил нет. Семен протер глаза, сгоняя сон, и огляделся. Серко стоял под каким-то навесом у незнакомого сарая. Кругом стонал и гудел лес.
Семей слез с коня, — ноги, как чурки, одеревенели — попрыгал и открыл жидкую, из жердей, дверь в сарай. В нем было темно и терпко пахло сеном Кое-как достав негнущимися пальцами спички, засветил одну. Желтое пламя упало на сено, на пустой угол. Он завел коня в сарай, закрыл дверь и начал рвать руками охапки сена. Когда перед мордой Серка была набросана целая копна и он, похрустывая, по уши уткнулся в нее, Семен сделал толстую самокрутку и жадно высосал ее. Постоял, послушал: стонет и скрипит лес, со свистом мечется по нему ветер. Буран и глушь. Кто здесь будет искать его? Заплевав в руке окурок, выкопал в сене яму и залез в нее. Сжавшись в комок и вздрагивая перемерзшим телом, уснул быстро и крепко, стиснув меж ног топор.
8
Давили кошмары, донимал холод — и Семен проснулся словно в тяжком похмелье. На душе было муторно, а в голове гудело. Выбрался из сена, отряхнулся. Тихо, и стрекот сороки где-то рядом звонок и чеканно четок. «Язва!»— обругал суетливую птицу Семен и приник к щели в стене, через которую в сарай лился прямой струей солнечный свет. Приник, вгляделся и обмер: рядом, в двадцати шагах, была просека и на ней стояли трое конных. На треухах и папахах алели красные ленты. Красноармейцы курили и смотрели в сторону сарая.
Семен замер, только сердце гулко стучало в груди. Так ребенком однажды стоял он перед пнем, на котором, свернувшись пружиной, дремала змея. Тогда казалось ему: шевельни он хоть пальцем, и змея смертью метнется к нему.
Хрустел сеном и шумно сопел Серко, во все горло ругалась проклятая сорока, а красноармейцы курили и глазели на сарай. По колено в снегу, нетерпеливо взма-
16
хивая головами и повязанными в тугой узел хвостами, горячились под ними кони.
Омертвел в ожидании хорунжий, положи сейчас на плечо ему руку и скажи:— А, ты здесь!..— и замертво брякнется он.
Покурили красные, потолковали о чем-то и направились прочь из леса, в сторону станицы. Семен выпрямился во весь рост, вздохнул и упал на сено, обессилев и одурев от радости: конь, проплутав всю ночь, не довез его всего три версты до станицы, наткнувшись на сенник Кузьки Рыжего, станичного пьянчуги и дебошира. Сенник стоял на опушке, и узкую просеку вели казаки, вырубая лес для своих нужд. Просеку направляли к невысоким горам, где можно было брать и тесать камень, тоже для мужицких нужд.
9
Весь день хорунжий Кузьмин просидел в сарае, глотая холодную слюну и докуривая последние крохи табака.
Когда ночь серым пологом опустилась на лес и снова завьюжило, хорунжий вышел из сарая, повалялся в снегу, налепляя его на себя, и белой тенью выбрался на просеку. Тихо, темно. Он проскакал до того места, где топтались трое. Так и есть. Ехали они из станицы, здесь остановились, постояли и повернули обратно: снежная гладь просеки была не тронута. По лесу, вдоль ее, и направил коня беглец, помахивая топором и уткнув щетинистый подбородок в запорошенный сенной трухой воротник полушубка. Он держал путь к зимовке бая Алимкула.
10
Станица переполнилась большим людским горем: свозили убитых и порубленных казаков на небольшую площадь перед церковью. Здесь были и с поседевшими бородами старики и безусые юнцы, перед которыми жизнь только открывалась. Многие из них погибли по своей глупости, повалив туда, куда ломились кондовые казаки, почуявшие в коммунистах неминуемого врага.
17
Надрывались плачем бабы, голосили дети, глядя на равнодушных теперь ко всему тятек, братушек и дядек.
На станичном кладбище долбили пешнями землю те, кто в подполах и овинах пересидел пожар смуты, долбили с утра до ночи, и с ночи до утра. И засыпали мерзлой землей тех, кто не сумел дождаться на ней новой весны.
Рыл могилы и хоронил в них своих друзей-одностаничников и Тихон Федорович. А когда выравнял холмик на последней могиле, где упрятался навсегда забулдыга и драчун Кузька Рыжий, с которым когда-то учились курить и любить девок, плакал долго и тихо, опершись лбом на холодный конец пешни.
Не чуя себя, пришел домой и долго сидел в холоде и. тьме. Голосу и тело знобило свое и чужое горе, травило одиночество. Так, одетый и в шапке, просидел Тихон Федорович до полуночи, а потом встал, нашарил за печкой старый чресседельник и, будто для дела, расправил его. Встав на табуретку, нащупал на потолке крюк, на котором качалась когда-то зыбка с бесштанным Семкой. Привязал за крюк конец чресседельника, другой — обмотнул вокруг шеи узлом и отбросил ногой табуретку...
В последнее мгновение его жизни за станицей треснуло несколько залпов: расстреливали пойманных казаков, захоронивших оружие, но горевших лютостью к коммунистам. Чтоб не вспыхнул вновь пожар, затаптывали угли.
11
Весна навалилась на зиму сразу и всей своей теплынью. Вдруг осели, померкли снега и хлынули грязными потоками в низины. Почки дулись, дулись — и лопну ли в один день, и леса стали сплошь зелеными. В полдень, когда высоко поднималось необъятное солнце, земля парила и пахла тем одурманивающим мокрым запахом, который будоражит душу земледельца, как дрожжи тесто. На озера густыми стаями стремились гуси, утки, в лесу гулко куковали кукушки,— было такое время, когда все живое радовалось и трудилось во имя самой жизни, во имя своего права жить в этом большом и прекрасном мире.
За два месяца бесцельного сиденья в низкой, прокопченной землянке, вздрагивая по ночам от каждого непо-
18
нятного звука, Семен стал похож, наверное, на того лесовика, о котором рассказывала ему когда-то в сказках покойница мать. Он прятался и прятал свое обличье. Его лицо густо заросло сивым волосом, словно у кержака, и хотелось чтобы оно заросло совсем.
В землянке, вырытой в глухой чащобе у подножья горы, их жило четверо: он, хорунжий Кузьмин, и трое казаков. Двое — Фрол Моисеев и Филипп Корчагин — пожилые мужики, неволю и отчуждение переносили молча, в думах, а третий, молоденький казачишка Васька Лисицын, бился в ней, как пойманный снегирь,— то молчал, прикрыв синие чистые глаза пшеничным чубом, то целыми днями тренькал на балалайке и пел.
Иногда Васька вдруг исчезал, и трое ждали его с нетерпением, злостью и завистью: парень уходил на байскую зимовку, неподалеку за горой разбросившей в тесной лощине свои юрты. Знали казаки: парень утек до чужих, черноволосых и черноглазых баб, стыдливых и упрямых, ласковых и добрых. И вернется или с побитой рожей или с варнацкой ухмылкой. В таких случаях хорунжий, ожидая, скрипел зубами, а когда парень возвращался, угрюмо цедил:
— Ты что же, стервец, всех загубить хочешь? Неужели невдомек твоей дурьей башке, что нас продадут чека эти голодранцы, Алимкуловы пастухи?
Васька, стоя навытяжку, косил круглый глаз в сторону и мямлил:
— Я ж с краешку, сбочь аула и только с байскими бабами балуюсь. Их вон шестеро, что тебе молоденькие кобылки, а сам Алимкул что? Мешок с дерьмом. Стар и соплив... Так что — никакой опасности...
Офицер рассыпался страшным матом, но ударить парня боялся: драка не сулила ничего доброго в его положении.
Перед сном Васька аппетитно рассказывал о своих похождениях седобородым друзьям и засыпал сразу крепко и тихо, как ребенок от хорошей сказки. А казаки долго ворочались, кряхтели и курили. Засыпали же с трудом и в коротком, взбалмошенном сне видели своих баб, сдобных и теплых, по-девичьи желанных и веселых. Просыпаясь, материли Ваську и свое волчье житье, которому не видно было конца, как той страшной болезни, когда человек гниет заживо — и все-таки живет.
19
12
А весна шумела, радовалась, смеялась ослепительным светом солнца и звала к себе, к земле, к жизни. Казаки с утра до ночи глазели на нее, грызли первые сочные травинки, мяли в очерствевших пальцах мягкую, душистую землю и вздыхали.
Однажды Фрол Моисеев, низкий, длиннорукий, с бородой ниже плеч спросил офицера:
- Ну и долго мы, Тихоныч, будем сопеть здесь? К Алимкулке в пастухи хоть наняться, что ли. От дум одних одурь возьмет.
Филипп Корчагин разложил на своих длинных ногах сильные масластые руки — насмерть зашибал в кулачных драках — и вылил наболевшее:
- Он, Алимкулка-то, где хлеб теперь брать будет? А мы могем ему посеять, хоть десятину...
Васька почесал за ухом углом балалайки, зевнул и матерно выругался:
- От хлеборобы нашлись, а? Задницами пахать будут, а мордами боронить.— И очень дельно посоветовал: Теперь у нас одно: метить в святые. Те тоже в пустынях жили и божьим даром кормились. Вот только кто нас в библию запишет, когда передохнем с тоски? Алимкулка? Так он нехристь и в грамоте туп, как моя пятка.
Казаки пропустили мимо ушей шутку парня, а Семен, подумав, сказал:
— Сегодня, как стемнеет, пойду к Алимкулу. Надо узнать, что делается в станице. И решать надо: или прочь уходить из родных мест, или объявляться с повинной красным.
Сказал, а сам подумал: ему-то красные никогда и нигде не простят того, что он наделал, дорвавшись до власти. Был одержим ею, как падучей, и ставил ни во что ни свою, ни чужую жизнь.
Подумал и направился, тихо раздвигая зеленеющие ветки, к озеру у подножия гор.
13
На берегу, в прошлогоднем камыше, выбрал место, расстелил полушубок и лег. Глаза потерялись в теплой синеве неба и устав в бесплодных поисках чего-либо интересного, закрылись. Думы теперь стали яснее и лег-
20
ко тянулись из памяти, будто слова давно полюбившейся песни. А в двух шагах, за мягкой шуршащей массой камыша, сонно вздыхало и набегало игривой волной на берег озеро.
Думал Семен: как же получилось так, что он, вдруг с упоением бросившийся громить советскую власть, оказался загнанным ею в этот медвежий угол без надежды на примирение с нею и вконец опустошенный? Ведь ка кие-то два месяца назад, даже отступая перед красными, он еще был уверен, что все случившееся — временно. Неудача делала его злее, доводила до жестокости, но никогда не терялась надежда вернуть утерянное, какой бы цены это ни стоило.
Вернуть утерянное... А что он потерял? Офицерскую честь в глазах казаков, которые, не видя на нем погон, начали звать его просто Семкой? Так ее, эту власть, можно было бы добыть и у красных. Ведь предлагали же ему командовать эскадроном, когда он был мобилизован советской властью бить Колчака? Предлагали, но он отказался, ссылаясь на неумение, и всю колчаковщину просидел писарем в пехотном полку красных. Побоялся лицом к лицу встретиться с теми приятелями, которые были в полках адмирала. И зря. Красные не боялись никого: отец становился посреди дороги — отбрасывали отца, сын — и того отшвыривали ко всем чертям. Подумывал Семен: прижмет как следует Колчак,— и он переметнется к нему. Но Колчак катился из Сибири, как снежный ком с горы...
Демобилизовался из Красной Армии, вернулся в родную станицу и здесь впервые почувствовал всю силу человеческого недоверия: его не допустили даже до дело-производительской должности в сельском Совете. Петька Горох, в прошлом друг детства и ночных потех, а теперь партиец, потерявший руку в жаркой рубке с бандой атамана Анненкова, и председатель Совета так ответил, когда Семен предложил ему свою грамотность:
— У нас к тебе веры нет. За царя с турками доблестно сражался, а на Колчака побоялся замахнуться и отсиделся в писарях. Теперь уж обойдемся без тебя... Паши и сей, да честно, а то придется припомнить твое офицерство.
Ему грозил Петька Горох, плюгавый казачишко из бывшей его сотни, ему, единственному казачьему офи-
21
церу из всего станичного воинства!.. Ушел из сельсовета Семен с твердой решимостью отомстить Петьке и его власти за такое надсмехательство над его, семеновой, грамотностью и самолюбием.
Сперва думалось, что в сельсовет все-таки позовут, но не звали, обходились без него. А жадно хотелось власти и уважения -к себе: ведь он был офицером. Потянуло в такие компании, из которых на советскую власть несло смрадом. В этих компаниях с ним считались, даже господином офицером называли. И советовались. Но он пока ничего не советовал, а возмущался вместе со всеми советскими порядками, ругал их и партийцев.
Тихон Федорович попробовал было придержать сына в хозяйстве и оторвать его от кулацкой компании, но куда там! Побелел и буркнул:
— Ковыряйся ты в этом хозяйстве, как жук в дерьме, а я пойду своим путем!
И пошел. Когда нарочный привез в сельсовет бумажку о продразверстке и с нею — запас слухов о голоде в Москве и Питере, казаки взбеленились. Открыто ругали советскую власть и грозили ей волосатыми кулаками. Тут-то и объявились беглые колчаковские офицеры, обшарпанные меньшевики и эсеры и во всю силу начали дуть на уголек мужицкого возмущения.
Завязалась связь с Кокчетавом, Петропавловском, с окрестными степными городками и станицами. Советчики чувствовали, что готовится что-то нехорошее, бандитское, но ничего сделать не могли: Красная Армия была далеко, и не было силы в этом краю, способной одним разом прихлопнуть кулацкие рои. А они крепли, жужжали грознее.
Собирались по ночам у Филиппа Корчагина. Курили, пили и строили планы. Верховодил всем полковник Пелымский, щедрый на деньги и жесткий на требования. Незаметно Семен Тихонович Кузьмин стал ему таким приятелем, которому доверялось все, даже личное оружие.
Готовились тихо, но обстоятельно. Колчаковский полковник доверительно сообщил подчиненным, что сразу поднимется больше десяти тысяч казаков, недовольных советской властью. А потом эта цифра удвоится: только бы начать. Лобановским отрядом было поручено командовать хорунжему Семену Тихоновичу Кузьмину.
22
Где-то в Кокчетаве таилась бывшая коннозаводчица княжна Курбатова, от нее неиссякаемым ручейком текли деньги.
Молча и гордо ходил Семен по станице. Он чувствовал себя уже ее правителем. И когда встречал Петьку Гороха, недобро усмехался и проходил мимо. Кому-кому, а уж этому вечному бесштаннику он, хорунжий Кузь мин, покажет, чего стоит казацкий хлеб!..
14
На этих тайных сходках Семен и полюбил дочку Филиппа Корчагина Настеньку, бойкую семнадцатилетнюю девчонку. Полюбил как-то сразу и крепко.
Настенька, румяная, сероглазая, с толстой русой косой, прямо падающей вдоль мягкой, красивой спины до пояса, часто подавала на стол гостям. Она всегда улыбалась чему-то, прикрыв глаза густыми ресницами, а когда подымала их, то видела только хорунжего, смуглого, гибкого, с влекущей жадинкой в зеленых глазах.
Однажды Настенька прибежала к Кузьминым по делу: Тихона звал отец. Семен был один дома, чистил охотничье ружье, собираясь сходить на зайцев. Увидев Настеньку на пороге, он смело шагнул к ней, сперва взял за руку, а потом поднял и безмолвную, трясущуюся от сладкого страха, обжигая поцелуями лицо, губы, глаза, отнес на кровать.
Поняв, что случилось в ее жизни то, что уже ничем нельзя поправить, она тихо плакала, уткнувшись ему в плечо, а он гладил ее волосы, целовал их и говорил смело, ни о чем не жалея:
— Ты будешь моей женой, не плачь.
Через месяц урывочных свиданий Настенька забеременела. Семен сразу же пообещал поговорить с отцом и все закончить небывалой свадьбой. Но свадьбу сыграть не пришлось …
15
Набат грянул в полночь. Крики, конский топот, стрельба...
Женский плач, скрип подвод и команды, отрывистые, сдобренные злой матерщиной...
23
Петьку Гороха в одном белье выволокли из постели на крыльцо его избенки. Поняв в чем дело, он не просил, не возмущался, а только сказал хрипло:
— Смотрите, станишники, худо вам будет!..— и упал: не слезая с коня, Семен навскидку хлопнул его из маузера, подаренного полковником в минуту душевного расположения.
Убивали, казнили, жгли и волчьей сворой двигались к Акмолинску, где скопился взятый по продразверстке хлеб для голодающих Москвы и Питера. Поражений не было. Легкие, мимоходом, победы кружили головы, разжигали жажду мести.
Под Акмолинском пятнадцатитысячную свору разбили мобилизованные наспех коммунисты и комсомольцы, Из Омска подходили части Красной Армии.
Отступали, грабили, казнили...
Бежали сперва к родным местам, а потом — куда глаза глядят...
Случилось то, что должно было случиться; но не верилось, что так быстро все кончилось: и власть и надежда на привольное житье. Не верилось, пока полковника Пелымского не поймали чекисты в юрте одного богатого киргиза. Узнали, хотя был он в рваном чапане и малахае.
Теперь было ясно, что не нужно было затевать всего этого: нужно было мириться, приспосабливаться и терпеть. Прав был отец: всю Россию не одолеешь. Куда же теперь?
Что с Настенькой?
Уткнуться бы сейчас ей в теплую, мягкую грудь и плакать тихо, долго, покаянно...
А где теперь она? И знает ли Филипп Корчагин, что его неудачливый зять и виновник будущих бед его единственной дочери — хорунжий Кузьмин?
16
Захрустел камыш под чьими-то ногами. Семен вздрогнул, выхватил из-за пояса маузер, прицелился на шум. В камыше тихо выругался Васька Лисицын. Семен облегченно вздохнул и откинулся на спину, сжимая в руке маузер.
24
- Я тебя чуть было не щелкнул,— сказал он глядя в синюю высь.— Голос подавай, когда идешь.
Васька сел рядом, крепко обняв колени, уперся в них подбородком. Молчали.
— Приятели наши уйдут,—сказал Васька уныло.
— Слышал?— спросил Семен и насторожился.
— Нет, но думаю так,— ответил Васька и вяло усмехнулся неизвестно чему.— А чего им?.. Так, увязались за всеми — и только. Один фураж запасал, другой вроде квартирьера был... А я Петьки Гороха жинке живот отбил... Потом порубил многих...
Опять долго молчали. Васька, будто вспомнив что-то муторное, горько удивился:
— А зачем?.. Небось и советская власть не оставила бы нас без штанов... А то дунули вперед: айда, айда!.. А куда айда?..
Васька плюнул и так заскрежетал зубами, что Семен покосился в его сторону: уж не рехнулся ли парень?..
И опять молчали. И в этом молчании особенно четки и понятны были слова Семена:
— Да, куда — айда?..
Курили, молчали и думали. Больше нечего было делать.
17
На зимовке Алимкула Семен бывал редко, а если случалось, то крался туда ночами. После поимки Пелым-ского не верил и киргизам, даже Алимкулу, хотя бай и сам боялся чекистов: пять тысяч баранов отвалил он восставшим, когда те двинулись походом на проклятые советы.
Маузер был безупречно чист и надежен, однако Семен еще и еще раз проверял его, готовясь в гости к Алимкулу. Рядом тренькал на балалайке Васька. Наигравшись, вздохнул:
— А есть одна жинка у Алимкула — чисто ихняя голубка. Совсем девчонка, а как посмотрит, так даже жарко делается. И зачем мучает ее этот беззубый нехристь?
Васька в глубочайшей задумчивости пожал угловатыми плечами и вдруг рванул «Камаринскую». Потом также неожиданно осекся, прижал струны ладонью и доверительно сообщил:
18
—А ведь балалайку она мне подарила... Ей-богу!.. На, говорит, урус домбыра... И смеется... Алимкулка после, пес беззубый, перестал в гости пускать... Даже кукиш показал...
Семен сунул «маузер» в кобуру на поясе и сказал Ваське:
— Седлай коней. Вместе поедем в гости к Алимкулу. А мне дай свою бритву.
Васька ошалело посмотрел на хорунжего и метнулся в землянку.
Уехали, когда от озера потянуло холодом и черная большезвездная ночь мягко прикрыла дурманящие краски весны.
Проводив их молчаливым отчаянием, низкорослый Фрол и длинный, как дорожная веха, Филипп, тоже оседлали коней. И уехали в сторону станицы, покаянно свесив свои отяжелевшие от дум головы. В землянке осталась балалайка да два драных зипуна.
18
Ели бесбармак и пили чай. В юрте были только Алимкул, бритоголовый, жидкий старец, с мокрыми глазами и жидкой, выщипанной бороденкой, и Семен. Несмотря на свой неказистый вид, бай был грозен и солиден когда-то. Оборванная, запуганная вечным страхом беднота, трепетала перед ним и боялась его пуще самого русского царя. Царь был где-то — и никто его не видел, а бай был здесь, рядом, сам — закон, сам — суд. Но теперь Алимкул был уже не тот: он как-то обмяк, потускнел, стал медлителен и задумчив в разговорах.
Бай изредка отхлебывал из пиалы и говорил, вздыхая и качая бритой головенкой:
— Плохо, ой плохо!.. Царь нет, работник нет... Все, все к черту!.. Зачем не бил совет? Столько мяса давал, а толку нет... Совсем плохо... А идти куда? Китай — шибко далеко, а совет — совсем близко. Джатаки туда бегут, боятся нет...
Семен допил чай и налил в пиалу самогону: бай выволок этого зелья целый кожаный мешок, но Семен сперва пить отказался. Теперь захотел. Выпил пиалу одним духом, долго кашлял и морщился. Закусил горстью мяса.
26
— Одно я не пойму. Все ругают советскую власть, бьют коммунистов, а толку, как ты сказал, нет. Выходит— крышка старым порядкам? Бай кряхтел и качал головой:
— Значит так, значит так...
Хмель цепко схватил за душу хорунжего, приятно щекотал ее, наполнял силой. Снова хотелось драки и власти. Семен сжал руку в кулак так, что пальцы побелели:
— Теперь бы мне человек двадцать с оружием, чтобы настоящие янычары были. Я бы показал кое-кому!.. А потом — ушел бы в Китай. Там, говорят, атаман Щербаков готовит войско. И Дутов туда подался.
Алимкул налил себе из турсука. Выпил и так сморщился, что посинел весь, как утопленник. Семен подумал: на кой черт лакает? Еще околеет... Прокашлявшись, Алимкул молвил:
— Еще беда, Семка. Целый ведро золота прятал, теперь сам не найду... Как черт запутал...
При упоминании о ведре золота мысли Семена вдруг обрели цель: с этим золотом в Китае можно широко пожить. И черт с ней, с родиной, если здесь пришелся не ко двору. Осторожно спросил:
— Где же ты его спрятал?
— Тут, в лесу,—просопел бай.—Каждый день хожу искать, а телку нет. Прятал ночью, а место забыл.
- Найдем!— Семен стукнул тугим кулаком по колену. И предложил:— Ты дай нам киргизскую одежонку... Все незаметнее будет...
— Азьыи, пжалста,— охотно согласился бай и опять хлебнул самогона. Отсопевшись, добавил:— Баб — тоже, хочешь, возьми... Теперь не жалко... Все равно толку нет...
Он крикнул по-своему. Вошла старуха с закутанным лицом. Алимкул сказал ей что-то. Старуха сказала «ие» и вышла.
Договорились: Семен с Васькой ночуют в ауле бая, а утром они вдвоем, хорунжий и бай, отправятся в лес искать запрятанное золото. Семена Алимкул оставил в своей юрте, а Ваську отправил к какому-то Даул-баю.
В юрту вошла женщина с охапкой одежды Семен не обратил внимания на вошедшую — старуха!—но когда она заговорила с баем, поднял глаза, насторожился.
27
В прорези платка искрились молодостью большие черные глаза. Это, наверное, была та самая голубка, о которой говорил Васька. Что же, он, Васька, пожалуй, прав: этому сопливому ублюдку не по плечу такая молодка. Захотелось взять бедного мужской силой бая и вышвырнуть из юрты, как напрокудившего щенка.
Алимкул долго говорил с вошедшей, то тихо и смиренно, то зло и властно. Женщина молчала, изредка косясь черным глазом в сторону русского. Хлопнув себя по коленям, бай сказал Семену, словно согласился с тяжкой неизбежностью:
— Бери чапан, все бери... И девку бери. Все равно толку нет...
Кряхтя и сопя, ушел. Семен встал, подошел к женщине, та низко опустила голову, в глазах заискрились слезы. И хорунжему вдруг захотелось заплакать с ней. Отвернулся, постоял, сунув руки в карманы штанов. Потом сказал, положив ей на плечо руку:
- Не бойся... худого не сделаю. Звать тебя как?
Она смотрела на него большими, доверчивыми глазами и молчала. Догадавшись, что женщина не понимает его, спросил по-ихнему:
- Аты кым?
Женщина улыбнулась, и улыбка сделала ее совсем юной. И опять в душе Семена вспыхнула неприязнь к немощному баю: сволочь! Улыбнулся сам и пригласил к столу — разостланной на кошмах, позолоченной, как риза, скатерти. Запас слов чужого языка был скуден, и Семену больше приходилось объясняться жестами. Женщина понимала и утвердительно кивала головой. Ее звали Айсагат.
19
Они пили чай. Полулежа на мягких подушках, Семен наблюдал за женщиной. Странное чувство кипело в нем: было почему-то жаль ее, эту юную степную красавицу, проданную вонючему старику, может быть, за десяток баранов, и было жаль себя, молодого, сильного и уже затоптанного, словно окурок, жизнью. Почему же случилось так? Он не понял жизнь или жизнь не поняла его?
В ту набатную ночь, когда он, сидя на пляшущем
28
от нетерпения Белке, бросал первые команды, ему казалось, что теперь сама жизнь в его руках, и он сделает из нее все, что нужно: власть, деньги, положение. Он упоен был этим чувством, как желанной удачей и, не раздумывая, выполнял все приказания высшего начальства — это было для него законом. И что же получилось? То высшее начальство оказалось дрянью, вышвырнутой вон. Дряни этой больше нет, но те, кто нес ее в своих руках, остались не у дел: кто теперь поверит им, запакостившим свои руки и совесть? Значит то, что казалось наказанием, в самом деле было, может быть, предназначением?
Он, молодой офицер, могущий сделать черт знает что, стал теперь другом этого хилого, пакостливого Алимкула. Другом!..
Когда-то, еще на Туретчине, под крепостью Каре, он собственноручно пристрелил двух казаков из своей сотни, поймав их за грехом со старухой-турчанкой. А теперь он товарищ седобородого, сопливого греховодника... Да, получилось что-то не так!..
Айсагат покорно прилегла рядом, освободила свою голову от платков и повязок, и он гладил ее черные густые косы, позванивающие золотыми и серебряными монетами, целовал шершавое и упругое от загара лицо. И не радость щемила его сердце, а боль. Перед глазами была Настенька, такая же вот одинокая и беспомощная. Она тоже, видно, чувствовала в нем ту силу, которая так нужна женщине в жизни. Силы этой больше не было, нет. И единственной памятью о ней оставался у Настеньки ребенок, которого она носила в себе.
Айсагат, девятнадцатилетней шестой жене Алимкула, очень нравился этот молодой русский, сильный и ласковый, как тот батыр, о котором в сказках рассказывала когда-то бабушка Апиза. Он жалел ее, и было очень хорошо от его ласк и непонятных слов.
Семен проснулся рано, за юртой еще не было слышно даже голосов женщин, которые вставали раньше мужчин. Айсагат сладко посапывала на его руке, теплая, нежная и милая, как большой ребенок. Не хотелось будить ее, не хотелось обрывать ее крепкого и, может быть, счастливого сна...
Свободной рукой Семен нащупал под головами маузер и положил рядом. Снова тяжесть дум навалилась
29
на него, но долго думать не пришлось. Где-то далеко, на самом краю аула, послышались странные крики: будто там поймали и собрались резать поросенка.
Почти бесшумно откинулась войлочная дверь юрты, кто-то вошел. Рука сама схватила маузер, вскинула на уровень глаз. Вошедший зажег спичку, и Семен осатанело прошипел:
— Я тебе, стерве, сколько раз твердил: не подходи без голоса. Убью ведь когда-нибудь!..
Васька, подняв спичку над головой и прикрывая свободной ладонью разбитую скулу (кто-то хватил твердым, когда он в полночь выползал из юрты молодой вдовы), сказал напуганно:
— Беда, Тихоныч, Алимкулка с ума сошел!..
- Как сошел?— Семен осторожно высвободил руку из-под головы Айсагат, встал и зажег плошку.
— Золото в лесу запрятал, а место забыл. Всю ночь искал понапрасну, а вернулся и визжать начал,— пояснил Васька.— Все с себя сбрасывает, голяком катается по юрте и голосит, как поросенок... Пастухи связали его, на привязи сейчас сидит.
— Одевайся!— Семен бросил из принесенной Айсагат охапки штаны, рубаху, чапан и шапку.— И седлай коней. А мундиры наши захвати, сожжем в лесу!
Васька не расспрашивал, зачем менять одевку: догадывался. Скоро у юрты всхрапнули кони и кашлянул Васька. Семен тронул Айсагат за плечо, слегка потряс ее. Она проснулась, обрадованно протянула ему руки и вдруг рассмеялась звонко, заливчато. Ее смешил этот хороший, зеленоглазый русский: зачем он оделся в эти байские обноски? И, наверное, догадавшись, смолкла, насторожилась. Семен взял ее на руки, прижал всю к своему лицу. Потом крепко поцеловал, поставил на ноги и сказал:
- Ну, прощай!— и вышел.
Замолк стук копыт, и стал слышен какой-то странный визг в той стороне, где стояла юрта старшей жены бая. А Айсагат все стояла и никак не могла понять: сон это или явь? А когда поняла, пластом упала на кошмы и зарыдала от жгучей боли в сердце: она снова оставалась с этим противным стариком, поняв душой теплоту ласки чужого человека. Этот человек ушел, ушел, может быть, навсегда.
30
20
Ехали, торопились, словно их ждал кто-то. Хорунжий тихо поругивался, когда вспугнутые ветви деревьев густо обсыпали росой. Васька зябко гнулся в седле и бездумно напевал что-то, хотя на душе и было пакостно. Очень хотелось домой, в станицу... Покаяться, может, простят... Эх, житуха, тудыт твою!.. Васька хлестнул Буланого плетью. Конь ошалело метнулся в сторону. Седок ударился плечом о сук ели и вылетел из седла.
— Пристрелю, стерва бешеная!— заорал Васька, корчась от боли в плече и захлестывая повод вокруг сахарно-чистой березки.
Буланый храпел, обозленно поводя карими яблоками глаз, и рвался с, привязи, ломая кусты.
На крик и шум Семен, вздыбив, повернул своего коня назад и, подскочив, замахнулся на казака нагайкой.
— М-молчать!— с хриплым сипом бросил он.— Извел своим баламутством вконец!..
Васька, сбитый с ног конем хорунжего, завалился в кусты. Выпутываясь, щелкнул затвором винтовки, вгоняя патрон. Уперся в офицера жутко холодной синевой глаз и процедил:
- Потише, ваше благородие!.. А то стрельну невзначай и к чекистам попасть не успеешь...
Семен похолодел, рука с плеткой бессильно упала на луку седла. Будто во сне пробормотал:
— Значит все...
Васька ухмыльнулся, но винтовки не опустил. Семен пришел в себя, собирая мысли, долго свертывал цигарку. Прикуривая, понял: последний друг стал врагом. А врагов лучше... Но не додумал хорунжий: в лоб будто ломом ударили, перед глазами метнулось красное пламя и потухло…
21
Зло и насмешливо верещали сороки, провожая одинокого всадника, отдавшего поводья коню. Ветви сбросили с него шапку и рвали русый чуб, а он гнулся а седле, словно занедужив вконец. Звенел птичьими голосами лес, стыдливо трепетали в его листве горячие и манящие к себе блики солнца, а всадник плакал. Крупные мутные
31
слезы текли по его грязному лицу, оставляя чистые следы.
Всадник ехал Б родную станицу.
22
Когда на березках дрожали последние желтые листы, в Кокчетаве прачка Настасья Корчагина родила сына. Назвала его в честь первой своей девичьей радости, бесследно сгинувшего отца — Семеном. И фамилию отцовскую вручила ему. Когда коснулось, сказала прямо: отец был белым офицером и пропал где-то после восстания...
32
Далее идет вторая часть, посвященная его сыну - лейтенанту Семену Кузьмину, участнику ВОВ.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Olga170283
-
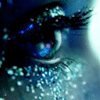
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
-

- Сообщений: 33
- Спасибо получено: 1
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Olga170283
-
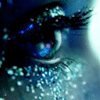
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
-

- Сообщений: 33
- Спасибо получено: 1
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Olga170283
-
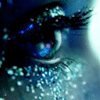
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
-

- Сообщений: 33
- Спасибо получено: 1
ну да давай почитаем все вместе может быт еше што интересного найдемnikishin пишет: Где нашел? Очень просто. После того как узнал, что тираж за 200 т.экз., понял, что она точно д.б. в областной библиотеке. Сходил - и нашел
Более того, я взял все книги с его произведениями. Нашел еще один текст, повествующий также о восстании. В ближайшее время, если интересно, тоже выложу здесь!
у самого то у тебя какое впечатление от книги?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Тем не менее все равно он молодец, что это опубликовал в свое время.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Olga170283
-
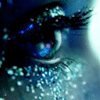
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
-

- Сообщений: 33
- Спасибо получено: 1
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Речь в нем идет о заочном противостоянии двух станичников, один из которых убил отца другого. А произошло это во время казачьего восстания ...
Антонов В.В. За колонной пленных // Антонов В.В. Последний допрос. – Алма-Ата, 1968. – с. 49-79.
За колонной пленных
Дремотно вздыхая, озеро накатывало на берег легкие волны, перебирало и перемывало песок и, оставляя на нем камышовый мусор, клочки серой пузырящейся пены, снова отступало, словно устав от этой бесконечной и однообразной работы.
Оно было велико, это озеро. Его зеркальная гладь достигала горизонта и терялась там, будто расплавившись в знойном, солнечно ослепительном мареве.
Роману было три или четыре года, когда отец первый раз взял его с собой на озеро. Утро. Теплое, розовое. И тишина такая великая и торжественная, что ее хочется слушать разинув рот. Отец, молодой и сильный, в холщовой рубахе-косоворотке, неслышно, будто нож в тесто, вонзает весло в покойную глубь воды и шлет лодку вперед, сквозь сонно пошептывающий камыш. И когда лодка выскальзывает наконец на большую водяную поляну, отец каким-то колдовским движением весла вдруг останавливает ее, потягивается, блаженно трясет кудлатой головой и смеется так, словно его кто-то щекочет. И Роман смеется, тоже беспричинно, но с удовольствием, будто радость пьет.
— Тыщу лет бы жить, а?—спрашивает отец Романа и начинает выбирать из воды сети.
Верткие и скользкие, как живые веретена, щуки, пузатые и широкие, будто баклажки, караси шлепаются в лодку, прыгают, бесятся и смешно чмокают губами.
***
Много раз бывал Роман с отцом на озере, но в жадную память его нетускнеющей блесткой запало только это утро. И отца он помнит только таким, каким видел его в часы рождения этого большого, как целая жизнь, дня, необидно насмешливым, завидно ловким и смелым — ведь только он
49
переплывал это озеро и с того невидимого берега как доказательство своей победы приносил в зубах еловую ветку.
Отца в станице уважали, но почему-то подшучивали над ним и называли чудаком. Может быть, потому, что он жил не как все: не пахал и не сеял, а мастерил замысловатые вещи и ремесленничал. Роман помнит, как на удивление всей станице отец разъезжал по улицам на двухколесном самокате: одно большое колесо спереди, другое, такое же большое, — сзади. Самокат двигался сам — отец только крутил ногами. Потом уж, лет через пять, Роман узнал, что это был самодельный велосипед.
Станичники несли к отцу поломанные ружья, капканы, швейные машины, самовары. И отец все исправлял.
В станице жили казаки. И отец был казак, но почему-то этим не гордился. Не носил усов, а казачьей фуражке предпочитал соломенную шляпу. Почти у всех были хозяйства, своя земля и заимки, а у отца — ничего. Когда другие пахали или убирали хлеб, отец бродил по лесу с ружьем, стрелял тетеревов, куропаток и зайцев. А капканами ловил лис, горностаев и хорьков.
Другие ходили в церковь, а когда выпивали, пели тягучие, похожие на жалобы песни. Отец в церковь не ходил, а когда тоже выпивал, брал гармонь, широко разводил мехи и, закрыв глаза и откинув назад голову, пел никому не знакомую песню:
Трансвааль,
Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне....
Или встряхивал головой так, что прочь летела соломенная шляпа, и громко запевал:
Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!
Пусть гром гремит,
Пускай пожар крутом...
И вдруг отец исчез. Пошел на охоту — и не вернулся. Дней через пять в лесу на его труп набрел станичный пастух. Отец был зарублен топором...
...Неподалеку кто-то закричал, и крик этот, пронзительный, пугающий, заставил Романа вскочить и повернуться в его сторону. Из чердачного окна ближайшего к озеру дома, будто не найдя трубы, густыми сизыми клубами валил дым. Роман знал: в селе почти никого из взрослых нет,— все
50
уехали на сенокос. Роман схватил брюки, но, поняв, что глупо сейчас тратить время на одевание, бросил их и в одних трусах рванулся к месту пожара. А навстречу ему, жалко размахивая руками и задыхаясь, спешила старуха Ветрова. Ее обогнала девочка и, растопырив, как крылья, руки, бросилась к Роману:
— Дядя Роман, пожар!...— хрипло, теряя силы и голос, всхлипнула она.
Взбежав по шаткой лестнице, Роман, как в воду, нырнул в плотный клубящийся дым, заполнивший чердак. И отпрянул. Вслепую, без воздуха, невозможно было отыскать даже место огня.
Дым стлался по потолку, но потолка не касался. Протерев глаза и откашлявшись, Роман по-пластунски пополз в глубину чердака, обдирая живот, грудь, руки и не чувствуя боли. По едкому запаху дыма он определил: горело тряпье, а по силе тепла — где горело. Вот он нащупал что-то похожее на старую телогрейку. Набрав в легкие воздуху, он привстал, сгреб тряпье в охапку и, пригнувшись, добежал до окна и выбросил тлеющую, кое-где уже взявшуюся огнем ношу наружу.
Ползти уже нельзя было,— мешали ожоги. Роман глотнул воздуха, ощупью добрался до того места, где лежал хлам, нашарил еще что-то и опять вернулся к окну. Так он очистил весь чердак и, убедившись, что дым поредел и ничто уже не горит, почти скатился по лестнице вниз. Люди сразу притихли и расступились, и Роман с удивлением, будто очнувшись от забытья, увидел, как старуха Ветрова упала на колени и протянула к нему руки.
— Родимый ты мой, от погибели спас!..
Роман обошел старуху и направился к озеру, обессиленный удушливой гарью, обожженный. Он сразу окунулся и застонал от боли. Только теперь он понял, как сильно обгорел. Жгучая, режущая боль туго стягивала кожу на животе и руках, и вода казалась не просто теплой, а горячей. А так хотелось, чтобы она была ледяной!
Стиснув от боли зубы, Роман смотрел в небо. Оно по-прежнему было безоблачно и бездонно и навевало дремоту и грусть. Через две недели ему нужно быть в училище, но ожоги к этому времени, конечно, не заживут. И как ему теперь быть: возвращаться больным или послать рапорт о болезни?
Вода не закрывала только нос и глаза, но Роман слышал, как рядом, на берегу волновались человеческие голо-
51
са. Он усмехнулся: публика ждет героя! И вдруг почувствовал такую радость, что какое-то мгновение не ощущал даже боли. Он спас от огня дом Ветровых — дом Нины. Как будто он специально загорелся для того, чтобы Роман совершил тот самый скромный подвиг, который для девушки доказательнее всякого уверения в любви. И что значат эти пустяковые ожоги?
Роман поднялся из воды, осмотрел себя. Руки и живот были в красных пятнах ожогов. Пятна эти набухали, уже волдырились, и Роман с радостью подумал, что лечиться придется долго, и,, встречаясь с Ниной, он уже не будет думать о своем скором отъезде.
На берегу Романа ждали.
— Касатик ты мой!—запричитала старуха Ветрова, суетясь вокруг Романа.— Пострадал-то как!.. Чем тебя и отблагодарить — не знаю!
— Чепуха, бабушка!— отмахнулся Роман.— Не надо никаких благодарностей.
Его окружили женщины и, сочувствуя ему и восхищаясь им, громко учили, чем и как лучше лечить ожоги. Одна советовала накладывать на обожженные места тертую картошку, другая — посыпать их содой.
Роман надел брюки, сапоги, взял под мышку остальные вещи и направился домой, мучаясь не столько от боли, сколько от смущения за свой вид — выпускник пограничного училища, завтрашний офицер, идет по селу без рубахи, будто по пляжу прогуливается.
Около дома Романа догнала молодая женщина с небольшим чемоданчиком в руках, на ходу окинула его цепким взглядом и заключила:
— Ожоги второй степени... Придется вам полечиться!— и уже в доме, пока Роман снимал с окон темные занавески, которыми мать затеняла комнаты от дневного зноя, продолжала:—Марганцовка есть у вас?.. Тогда я вам ее оставлю. Сделайте легкий раствор и смазывайте им обожженные места... И никаких перевязок.
— А как же я ходить буду?.. Рубаху-то поверх открытых болячек не наденешь...
— Ничего не поделаешь, придется походить без рубахи,— сказала фельдшер и в улыбке подняла черные тонкие брови:—Я думаю, девушка ваша простит вам неджентльменский вид.
Роман промолчал, наблюдая за легкими, умелыми движениями женщины и слегка поеживаясь от боли, когда она
52
смазывала тампоном в марганцовке уже лопнувшие волдыри.
Вошла и перекрестилась у порога старуха Ветрова. В одной руке она держала глиняную кринку, под мышкой — какой-то сверток. Она присела на краешек подставленной Романом табуретки и, жалуясь, гневно запричитала:
- Ведь что, варнаки, придумали? Воробьев жарить!., Да и запалили тряпье на чердаке. Не случись ты рядом, родимый, сгорел бы наш дом дотла. Да и соседи хлебнули бы горя... А я вот тебе, спаситель наш, сливочек принесла да пирогов с вишней. Поешь и прости старуху за беспокойство. А с ребятишками этими просто беда. Вчера под крышей осиное гнездо разворошили, битый час осы в дом не пускали... Сегодня дом чуть не подожгли... Просто напасть, а не дети...
Было во внешности и словах старухи что-то жалкое, заискивающее, и Роману стало не по себе.
— Ничего мне не надо. Спасибо.
Он стал перед пожелтевшим и облупившимся зеркалом, висевшим над столом, давая понять, что ему не до разговоров, что он слишком озабочен другим.
Покряхтев и повздыхав, старуха встала и распрощалась. Роман стоял у окна и видел, как она, выйдя из калитки, развернула зачем-то пирожки и снова завернула. А кринку, чтобы не попала в нее пыль, пристроила под старой латаной кофтой. И кофта, и юбка, и весь убогий вид старухи напоминал не о той бедности, которая вызывает сочувствие, а о неприятной скаредности.
Роман вспомнил, что в день приезда его заходили проведать все соседи, только дом Ветровых словно вымер. И хотя Роману из его обитателей нужна была только Нина, однако такое отчуждение всей семьи казалось затаенным злом. Правда, на следующее утро, когда Роман ходил в магазин за папиросами, ему повстречался сам Ветров. Как и год назад, он был небрит, угрюм, в залатанной, давно потерявшей цвет и вид одежде. Увидев Романа, он едва приоткрыл рот и процедил сквозь седую прокуренную Щетину:
— Значит, опять в отпуск? -Да...
— Что же, отдыхай,— и Ветров направился своей дорогой, оставив Романа недоумевать: этот всегда чем-то недовольный человек мог бы поговорить с сыном своего бывшего, друга. Но прошел мимо. И, глядя в окно, за которым то-
53
милась в зное тихая, безлюдная улица, Роман думал: странное дело, время меняет все. Изменилась родная станица. Когда-то, чтобы попасть из нее в ближайший городок, надо было целый день ехать на бричке или санях. И городок тогда казался целым престольным градом. А теперь станица стала целым городом, и деревянные приземистые дома в ней уступили место кирпичным, большеоконным и просторным. И до районного городка на попутной машине можно добраться за полчаса.
Изменились и люди. И одеваться, и говорить они стали по-новому. Называются колхозниками, а не казаками-хлеборобами, которых когда-то делили на бедняков, середняков и кулаков. Были еще подкулачники и маломощные середняки. Теперь это — уже история. И как память о живом прошлом остался Ветров. И его дом из потрескавшихся бревен, между которыми торчал мох. Только Нина и ее братишка Генка, который чуть было не сжег родной дом, оживляли эту странную семью, как новые, свежие побеги засыхающее дерево.
Роман смутно помнит, как мальчишкой играл с Ниной в куклы, ходил на озеро собирать ракушки. И вот уже юношей он снова встретил ее. Это было в прошлом году, когда он после стольких лет разлуки в форме курсанта погран-училища приехал повидать мать. Немногие из сверстников помнили Романа, зато взрослые — все. И удивлялись:
— Смотри ты, какой молодец стал! А, бывало, гусаков боялся. Увидишь и орешь: «Ма-а-ма!» Тебя так и звали тогда: Ромка — гусиный неприятель.
Нина зашла к ним, Белозеровым, вечером. С насмешливым любопытством поглядывая на Романа, сказала матери:
— Одолжите ступку на вечер, соль потолочь.
Мать предложила девушке сесть, улыбнулась Роману:
— Твоя подружка. Помнишь?
Нина как будто снова познакомилась с другом своего детства, рассказала о смешных случаях из их дружбы и ушла. А на следующий день Роман был в библиотеке, где работала Нина. Делать в библиотеке было нечего, из читателей в нее до вечера никто не заглядывал, и они ушли на озеро. Купались и снова собирали ракушки... Глядя на Нину, Роман радостно удивлялся: из худой, большеротой девчонки выросла девушка сильная, ловкая и красивая. И что больше всего радовало и удивляло Романа — это непринужденность и ум Нины. Когда Роман заговорил с Ниной о
54
том, что ее родители живут как-то странно, несовременно, она ответила, плеская воду на туго обтянутую купальником высокую грудь:
— Я их не понимаю и понимать не хочу. Оставим это.
Целый год юноша и девушка переписывались, и в их письмах были просто дружба и просто рассуждения о настоящем и будущем. В каждом письме Нина обязательно писала: если не читал, то прочти вот эту или эту книжку и обязательно посмотри такую-то кинокартину. В следующий отпуск он ехал уже с той радостью, которая наполняет человека нетерпением встречи. Однако Нина его не встретила. От ее младшего братишки, рыжего и конопатого Генки, Роман узнал: Нина в области на каких-то курсах, обещала скоро приехать и ему, Генке, привезти резинового крокодила, который плавает.
Роман ждал приезда Нины каждый день и по нескольку раз проходил мимо дома Ветровых, незаметно поглядывая на окна, во двор. Но Нины не было.
Мать каждое утро напоминала ему о том, что в лесу сейчас самая благодать — спеют ягоды, грибов столько, что хоть лопатой греби. Однако Роман под всякими предлогами оставался дома. Ждал, скучал.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
***
Роман снова завесил окна и прилег на кровать. Улыбаясь, он старался представить, как они теперь встретятся с Ниной, как она будет благодарить его. Он, конечно, будет уверять, что ничего особенного не сделал, и постарается даже виду не подать, как рад тому, что загорелся именно ее дом и рядом оказался он, а не кто-либо другой. И, безусловно, Нина будет ухаживать за ним, как за больным, но он и в этом деле проявит свою выдержку: ведь главное достоинство героя — не бахвалиться.
В комнате было тихо и жарко, будто топилась печь. Дремота пьянила, путала мысли, и Роман уснул. Ему казалось, что спал он очень мало, но когда проснулся, был уже вечер, и мать стояла над ним с встревоженным лицом. Он понял ее тревогу и сказал:
— Пожар тушил. Дом Ветровых чуть было не сгорел. Мать присела рядом, сняла с головы платок и стала разглаживать его на коленях сухими и сильными руками. Она молчала, но по ее лицу, всегда спокойно усталому, Ро-
55
ман понял, что мать почему-то не одобрила его поступка. Он; рассказал, как загорелись Ветровы, и добавил, что от них огонь мог перекинуться на соседей. Мать встала, повязала голову платком и сказала:
— Конечно, и соседи могли бы сгореть.— И принялась подметать пол, хотя еще утром Роман выдраил его, как пароходную палубу.— Только обгорел вот, отпуск весь пропадет, не отдохнешь.
Роман чувствовал, что мать говорит не то, что думает, казалось, она таила к Ветровым какую-то неприязнь, но не хотела рассказывать о ней. Вынуждать мать на откровение Роман не стал: в конце концов он сделал доброе дело.
Вместе они кормили гусей — гусака и гусыню с выводком. Но ни к какой другой работе по двору мать Романа не допускала, будто он и в самом деле стал больным. По пояс голый, растопырив руки, ходил он за матерью от колодца к грядкам с огурцами и смотрел, как она поливала их. У него были обожжены ладони, и он не мог даже крутить ворот, чтобы достать воды из колодца, это делала мать, ловко, сосредоточенно, привыкнув к нелегкому труду за много лет.
Мать! Она была когда-то молода и красива, и отец называл ее Аннушкой. Она любила наряжаться и петь песни. Когда в лесу наступала страдная пора — поспевали ягоды и грибы,— мать целыми днями пропадала там. И маленький Ромка был с нею. Какое это было чудесное время! В лесу тихо-тихо. И сумрачно. Прямые и тонкие лучи солнца, словно золотые нити, косо пронизывают его сверху донизу; пахнет смолой и сырой землей; где-то в глубине леса тосковала кукушка. Ромка ни разу не видел, какая она, но если спросить у нее, сколько лет ты будешь жить, она обязательно ответит.
—Ромашка!—звонко кричит мать.
Ромка бросает сухой березовый сучок, которым целился в надоедливо стрекочущую сороку, и вприпрыжку бежит на голос матери. Сорока стрекочет еще неистовее и летит вслед.
— Смотри-ка,— говорит мать, румяная, веселая, и указывает на куст вишни. Он так усыпан сочными ягодами, что, кажется, кто-то нарочно взял и вытряхнул на него целый мешок этих вкусных темно-красных шариков.
Теперь мать постарела. Нелегкая жизнь и труд выбели ли ее когда-то русые волосы, по-осеннему блеклым и ти-
56
хим сделали прежде красивое лицо. Движения и походка ее стали смиренными, как уставшие после ветра озерные волны. Но по-прежнему мать несла свою аккуратно повязанную платком голову прямо, и прямо смотрела людям в глаза.
На село, как тень от дождевой тучи, наплыла вечерняя прохлада. По улице, встряхивая слежавшуюся за день горячую пыль, загудели машины, с ленивым, как зевота, мычанием пробрело стадо коров; деловито и громко гоготали возвращающиеся с озера гуси, а людские голоса как будто напоминали о том, что дневные заботы еще не окончены.
Роман прошел к изгороди, оглядел улицу из конца в конец и задержал взгляд на доме Ветровых. Подумал: за что же мать недолюбливает их? И поймал себя на мысли, что и он особенно не расположен к этой семье. Есть такие люди, в которых таится что-то непонятно отталкивающее. Одного их взгляда или слова достаточно для того, чтобы вызвать в человеке необъяснимое чувство неприязни.
Вечером, когда они собирались ужинать, в сенях послышались легкие, крадущиеся шаги. В дверь тихо, просительно постучали. Роман вскочил, виновато взглянул на мать и так, стоя, поспешно ответил:
— Войдите!
На порог ступила не Нина, а ее мать, полная, вялая женщина с белым, нездоровым лицом и, кажется, никогда не смеявшимися глазами.
- Добрый вечер,— вздохнув, сказала она и покачала головой в темном, под подбородком завязанном платке.-— Ишь ты, как обгорел-то. Небось, теперь твои начальники накажут тебя за опоздание?
— Не за всякое опоздание наказывают,— ответил Роман и уткнулся в тарелку с борщом.
— Ну, дай бог,— Ветрова перекрестилась и опять вздохнула; хотя ей и предложили сесть, она продолжала стоять у порога, словно прилипнув к нему.— А мой послал за вами. Иди, говорит, зови Белозеровых в гости. Купил целый литр. Да за такую доброту, какую сделал нам Роман Константинович, и два литра не жалко. Ведь от какой беды спас!.. Значит, придете? Ну, будем ждать, ужинайте на здоровье,— и Ветрова исчезла в сумраке сеней.
Поужинали молча. Не дождавшись, когда мать заговорит о приглашении, Роман сказал: —Может быть, сходим? Ждут же.
57
Мать убрала со стола, вытерла его и потом только ответила:
— Нет, сынок, не ждут.
Мать положила на стол руки, осмотрела их, выдубленные жарой и морозом, как жгутами обтянутые набухшими жилами, с крепкими, по-мужски узловатыми пальцами и, словно прочитав на этих свыкшихся с любым трудом руках ответ сыну, сказала:
— Звали потому, что знают: мы не придем.
— Зачем же они тогда звали?— Как ни сдерживался Роман, но вопрос этот задал требовательно и немного раздраженно. Чувствовал, что между ним и Ниной неприязнь матери к Ветровым становилась той преградой, которую нельзя так просто перешагнуть. Нет, между матерью и Ветровыми была не просто ссора. Между ними было что-то важное, чего он не знал.
Роман пожал плечами, сел и с горечью сказал:
— Ничего не понимаю!
Мать подняла на сына строгие глаза, с минуту молча смотрела на него и, словно благословляя его в первый нелегкий путь, сказала:
— Сынок, ты помнишь отца, помнишь, какой смертью он умер. Ты был тогда мальчонкой и легко проводил отца в могилу. Но нелегко было мне, я многое понимала и видела, хотя и осталась неграмотной.
Вокруг электрической лампочки, висевшей над столом, отчаянно кружились мотыльки, словно опьяненные ослепительно ярким светом. Было слышно, как они бились о горячее стекло, обжегшись, срывались и снова кружились. И их трепещущие тени метались на белом глянце скатерти, как маленькие беспокойные призраки. Мать встала, осторожно переловила мотыльков и выпустила их в окно. Поплотнее задернула занавески.
— Тебя еще не было на свете, когда село наше взбаламутили кулаки, восстание подняли. Отец тогда воевал в Красной Армии против Колчака. Боже мой, сынок, сколько пришлось пережить! Как-то слышу ночью: дон-дон!— Набат. Пожар, думаю, и выбежала за ворота. А по улице скачут конные, шашками машут. Двое подскакали ко мне. Один тычет мне плеткой в лицо и спрашивает другого:
— У этой мужик в красных? Другой отвечает:
— У нее самой, стервы!
Иссекли они меня плетками чуть не до смерти и к церк-
58
ви ускакали. Заползла я во двор, кое-как закрыла ворота, домишко и — огородами — в камыши, а потом в лес, к своему деду на заимку. Там и жила целых два месяца, как богом проклятая, пока красные восстание не разгромили.
Все напряглось в Романе, он так сжал кулаки, что на ладонях лопнули волдыри. Не чувствуя боли, горячим шепотом спросил:
— Кто тебя бил? Ветров?..
— Нет,— спокойно ответила мать.
Роман проглотил вздох облегчения, прикусил губу, заглушая жгучую боль в ладонях.
— Били меня Яшка Рыжий и Клим Рваный. Прозвища убивцы носили такие. Одного в бою красные убили, другого потом в селе расстреляли. В подполе его любушки нашли... Ну, вернулась я домой. Ничего, все на месте. За ворота выходить боюсь, стреляют. Потом уж узнала: расстреливали тех, у кого оружие находили. Пришли и ко мне. Трое. В шлемах с красными звездами, с шашками и наганами. Спрашивают:
— Где муж?
А я молчу и от страха трясусь.
— Говори, куда он спрятался?
Я собралась с силами и бормочу:
— Воюет он против Колчака...
— Так чего ж ты,— говорят,— боишься? Раз твой мужик наш, значит, и ты наша!
Ушли и пригоршню сахара на столе оставили. С месяц в селе было тихо, как на могилках, ночами без огня сидели. А могилок после восстания вдвое стало больше. Много там прибавилось вечных жильцов. Иных, прости господи, не жалко было, а других — жалко, голь ведь перекатная, увязалась за кулаками по глупости. И сложили головы ни за что ни про что.
Ушли красные, когда порядок навели в селе. Ожило оно, однако кулацкие корни еще остались.
Когда вернулся из Красной Армии твой отец, в селе снова забродила смута. Тогда-то и стал захаживать к отцу в гости его дружок Севостьян Ветров. Числился он в середняках, в восстании участвовал, но как-то ушел от наказания. Сперва они с отцом при мне выпивали и разговоры вели. А потом —у Севостьяна. Как-то приходит от него отец, злой, лицо белое, на скулах желваки. Говорит мне:
— Понимаешь, Аннушка, они опять задумали восста-
59
ние. Еще мало им, живодерам, людской крови. Завтра же в ЧК пойду! Открою власти глаза на это змеиное гнездо.
Но назавтра он в ЧК не пошел, а отправился в лес. Кто-то ему сказал, что видел там тетеревиный выводок. Из лесу уж отец не вернулся.
А через неделю, кажется, всю головку нового восстания арестовали и расстреляли.
Севостьян Ветров снова остался в стороне.
Мать замолчала, с минуту неподвижно смотрела перед собой, словно вспоминая: чего же она еще не поведала сыну? Но ничего больше не сказала и ушла в другую комнату, где была ее кровать.
Роман встал, закурил и вышел на крыльцо. Где-то рядом заливисто выговаривала польку-бабочку гармошка, звонкий девичий голос рассказывал о том, как «летели утки и два гуся», у клуба динамик выплескивал неразборчивые звуки какого-то кино, а во дворе Ветровых визжал от боли мальчишка. Роман подумал, что это, вероятно, плачет Генка, которого секут за поджог. Мысль эта безучастно коснулась его внимания — и оно вновь отдалось осмысливанию рассказанного матерью. Он понимал, что в убийстве отца повинен Ветров, что, может быть, это страшной дело он сделал сам, чтобы не угодить в ЧК вместе с главарями вновь затеваемого мятежа, а потом предал и их, поняв, в какую трясину может попасть вместе с ними.
Роман знал давно, что убийцу отца так и не нашли, и убийство «списали» на неизвестного бандита — с отцом не оказалось дорогого заграничного ружья, полученного в приз за лихую джигитовку в эскадроне красной конницы.
— Ты бы шел спать, сынок... Роман вымученно бросил:
— Мама, почему ты не рассказала людям правду тогда? Мать вздохнула, но ответила спокойно:
— Я тогда была моложе тебя, а время бушевало такое, что правде моей могли не поверить и меня же осудить: я ведь дочь попа, а Ветров ходил в больших начальниках. Портфель носил и кожаную фуражку — не подступись! Раскулачиванием руководил и нас с тобой мог бы к кулакам причислить. И он бы сотворил это, не покинь мы с тобой вовремя станицу.
Роман попросил мать постелить ему во дворе и долго не мог уснуть, глядя в звездную россыпь неба и не видя ни звезд, ни дегтярно-черного полога за ними.
60
Ему шел двадцать первый год, в двадцать два года он станет офицером-пограничником. Он знал свое настоящее,
видел будущее, мечтал о подвигах. Он гордился своим
прошлым, трудным, но не сломившим его. Одиннадцати лет он убежал из дому с таким же жаждущим приключений сверстником. Но романтика бродяжничества длилась недолго. Роман попал в детский дом. Шли годы, он учился и жить, и работать, и по мере того как взрослел все больше и больше думал о матери, которая осталась на глухой станции только что построенного Турксиба.
Из детского дома Роман ушел в погранучилище, и тоска по матери, боль от причиненной ей обиды взяли свое. В первый же отпуск он вернулся на родину, которую помнил лучше, чем эту железнодорожную станцию в выжженной солнцем казахской степи. И он не ошибся: мать вернулась в родное село, как птица к своему гнездовью.
Роман когда-то считал обычными те мытарства, которые они пережили с матерью, покинув родину. Иногда жили впроголодь. Ему, мальчишке, приходилось собирать колоски на убранных полях и перекапывать чужие огороды в поисках дюжины забытых картофелин. Он не помнил, чтобы износил в детстве хоть одну пару ботинок или приличные штаны.
Мать жаловалась тогда на судьбу-злодейку. И теперь эта судьба приняла облик человека — Севостьяна Ветрова.
Он убил или помог убить его отца, он выжил из родных мест мать, молодую и неопытную в жизни, привыкшую к мужскому плечу. Он теперь «запаршивел», как говорит мать, но ему не пришлось скитаться по чужим углам. Роман думал с неприязнью о Ветрове, а перед глазами неотступно стояла Нина. Роман ждал ее. Разбитый мучительными думами, уже забыв об ожогах, почти потеряв ощущение боли, Роман забылся в тревожном сне только перед рассветом и, кажется, сразу же был разбужен матерью. На этот раз он сам напросился с ней на птицеферму. Мать попробовала его отговорить, но он стоял на своем. Сходил в больницу и попросил забинтовать ожоги, чтобы можно было надеть хотя бы майку. Они шли по селу, мать и сын. Их встречали и провожали приветственными улыбками и словами. Роман чувствовал в приветствиях нотки почтения к себе, но не радовался этому. Ему казалось, что они с матерью жалки перед людьми, жалки потому, что когда-то позволили себя оскорбить и молча снесли унижение.
61
Их догнал на телеге Севостьян Ветров. Остановив лошадь, он сказал, как из-под кнута:
— Чего же не пришли? Мы ждали...
Сойдя с дороги и не сбавляя шага, мать ответила:
— Некогда было.
— А Роман что ж?
Роман не ответил, внимательно разглядывая пожарно-огненный восход.
— Больной он,— сказала мать.
Ветров промолчал, стегнул лошадь и покатил дальше, согнувшись так, что его затасканная фуражка, казалось, легла прямо на плечи. Роман смотрел ему вслед, и презрительная усмешка набежала на его лицо, сорвалась с губ словами:
— Беднее его, по-моему, был один Христос. На рубахе заплата, как на мешке.
— Сам себя запускает для видимости, но заплатами теперь козыриться не время,— заметила мать и улыбнулась прохладному розовому утру, далекому лесу, густым, бесконечным частоколом отгораживающему горизонт.— Красота-то какая!.. Так бы и обнял все.
— Вместе с Ветровым?—усмехнулся Роман.
— Иногда с охапкой пахучего сена захватываешь и змею, но сено от этого хуже не становится.
Птицеферма находилась неподалеку от села, на берегу озера, но Роман только теперь понял, почему мать туда и обратно ходила пешком. Эта прогулка была для нее отдыхом и временем для тех раздумий, которые омолаживают душу, как здоровый сон. Однако как ни красиво было утро, как ни манили к себе озеро, лес и золотящиеся зреющими хлебами дали, Роман уже ничем не восхищался и ничему не радовался. Казалось, помимо его воли все окружающее потеряло смысл своего существования, и он думал только об одном: скорее уехать, очутиться снова среди друзей-курсантов, в привычной военной обстановке. Бесцельно бродил он по птицеферме, чуть не наступая на кур и уток, равнодушно слушал, как горланили петухи, и морщился, оглушенный утиным гомоном на берегу.
Сторож фермы, старый Федотыч, предложил ему поохотиться с берданкой за вороватыми воронами и по-разбойничьи нахальными коршунами. Он отмахнулся: руки болят. Старик пригласил его в лес грибов пособирать, он отказался по этой же причине.
— Хошь, Ромка, я тебе покажу место, где прятались ка-
62
заки, когда восстанию погром устроили?— пустил в ход еще один козырь Федотыч.
Но и это не заинтересовало Романа, и вечером, когда собирались домой, он сказал матери:
— Я, наверное, завтра уеду. В нашем госпитале меня быстрее вылечат.
Мать не обиделась и не удивилась. Зато ее подружка, вторая птичница тетя Даша, маленькая, толстенькая и беспокойная, как сорока, всплеснула пухлыми руками, искренне изумилась.
— Уже? Вот это погостил, вот это обрадовал мать! Недели не прожил в родном доме — и бежать.
Оглядывая небо и почесывая волосатую шею о конец ствола берданки, Федотыч солидно поддержал своего молодого друга:
— Солдат, бабы, не волен и болеть без приказания. Покажись начальству, доложи, как и что. Разрешит оно — тогда болей. А вы как думали?..
Председатель колхоза дал Роману свою пролетку, чтобы доехать до ближайшей железнодорожной станции, фельдшер, которая начала лечить его, дала ему на дорогу бинтов и какой-то не слишком приятной по запаху мази, мать тайком перекрестила сына, проглотила слезы, и Федотыч молодецки гикнул на вороных.
Ребятишки с криком долго бежали за пролеткой, и вместе с ними — Генка Ветров. Роман несколько раз оборачивался, смотрел на него, но сдержался и не послал Нине прощального привета.
Через три дня, уже в вагоне, Роман услышал неожиданную, все приглушившую весть: фашистская Германия напала на Советский Союз.
В полночь вышли на берег Ладожского озера. Отстучав не одну сотню километров по каменно-твердой земле, солдатские ноги ступали теперь по мягкому, как пыль, песку устало и вразнобой: не было слышно, как идет сосед, вся колонна и каждый шел по-своему, только соблюдая строй и придерживаясь локтя соседа.
Ночь была темная, безлунная, и озера не было видно. Только слышался встревоженный шум волн рядом и чувствовался запах воды — солоноватый, рыбный.
Потом колонна остановилась, командиров взводов вызвали к командиру роты. Роман приказал своему заместите-
63
лю сержанту Лошакову не курить и не расходиться и пошел в голову колонны, торопливо дожевывая сухарь.
Командир роты старший лейтенант Березин, глотая навалившуюся зевоту, сказал, что можно ужинать и располагаться на сон.
— Отдыхать будем. Тут,— лейтенант указал рукой в сторону,— есть землянки. Без особой нужды из них не вылазить. Все.
Роман возвратился к взводу и вместе с Лошаковым отыскал землянки, вернее — ямы в песке, прикрытые сверху кое-как и чем попало. В эти укрытия от вражеских самолетов-разведчиков можно было влезать только на четвереньках и так же выбираться обратно. Самую тесную землянку Роман оставил для себя и приказал своему связному навести в ней порядок.
Через полчаса батальон словно провалился в песок — затих. Шумели и плескались в густой тьме ночи невидимые сильные волны, со всех сторон далеко и глухо бухали орудия. Легкий ветерок, набегающий с озера, напоминал о том, что лето давно кончилось и пришло время осенних холодов. Роман надел шинель, которую до этого нес свернутой то на плече, то на руках, и пошел на шум волн.
Вода казалась черной и наплывала из самой ночи. Высокие волны жадно вылизывали песок и, словно отчаявшись насытиться, с гневным рокотом уползали обратно. Провалившись по щиколотки в мокрый песок, Роман схватил две пригоршни холодной воды с гребня набежавшей волны и плеснул их на лицо, подождал с минуту и так же вымыл руки. Утершись полой шинели, постоял, наслаждаясь прохладой, сполоснул ноги в упругой волне и вышел на сухое место. Натягивая сапоги, подумал: «Днем накупаюсь досыта, вряд ли будет еще такая возможность».
Но купаться не пришлось. Из тяжелых и грязных туч на другой день сочился дождь, озеро как будто кипело, и его необъятная холодная ширь отдавала ознобом и скукой. Накинув на плечи шинель, Роман обходил с Лошаковым землянки, справлялся о настроении солдат и возвращался обратно. Втиснувшись в землянку, грыз сухари, ел мясные консервы и пил мутную солоноватую воду. Все это — из запасов у связного Абдуллы, пожилого, удивительно спокойного казаха. У Абдуллы в тылу осталась большая семья, сам он не был настолько здоров, чтобы легко нести тяжесть солдатской жизни, однако никогда не жаловался и не роптал.
64
— Как-нибудь, товарищ лейтенант!— неизменно отвечал он на все вопросы Романа о здоровье, настроении и способности шагать дальше.
Сержант Лошаков годился Роману в отцы. Он воевал с немцами еще в полках генерала Брусилова, потом с красными гнал адмирала Колчака на Дальний Восток, но только иногда, словно между прочим, подсказывал он Роману ту мысль, которая была нужна в этот момент.
Как-то Роман признался своему заместителю, что то обстоятельство, что он моложе своих солдат, мучает его. И Лошаков ответил просто и деловито:
— Солдат должен всегда понимать, что он сумеет сделать все, что ни прикажет командир. Даже черта поймать у себя за пазухой.
У выхода из землянки Абдулла развел огонь и задумал вскипятить чай. Но дым почему-то оставался внутри землянки, будто его кто-то специально вдувал сюда. Все трое махали пилотками, полами шинелей, но дым, как пыль в безветрие, кружился на месте, терзал глаза и легкие.
— И на кой черт тебе этот чай?— слезливо промычал Лошаков.— Уморишь ведь!..
— Ладно, пусть кипятит,— сказал Роман и, попросив Абдуллу снять на минуту котелок, шагнул через чадящие головешки в тонкие, но плотные струи дождя. Лошаков последовал за ним.
— Как Абдулла любит чай,— сказал он, поднимая воротник шинели.— И чего он в нем находит?
Роман подставил лицо дождю, вытер его подкладкой пилотки и ответил:
— Кто за чем, а казах блаженствует за чаем. Для Абдуллы этот чай, может быть, последний. Слышишь?— и указал взмахом головы в ту сторону, где особенно часто и сильно ухали орудия.— Там будет не до чая.
Лошаков послушал и определенно заключил:
— Тяжелые лупят, чтоб фрицы не скучали.
Роман видел все землянки, в которых разместился его взвод. В двух было так тихо, что они казались пустыми, из третьей был слышен завидный смех. Лошаков, вероятно, понял мысли Романа и сказал:
— Пойдем, лейтенант, послушаем, как Бубнов врет.
Они пошли к землянке, присели у входа. Смех оборвался, и к выходу на четвереньках заторопился отделенный. Роман махнул рукой:
— Продолжайте. И одолжите табаку.
65
В землянке засуетились, и к Роману протянулось несколько рук с кисетами.
Будто не замечая легкой усмешки Лошакова (ври, мол, что куришь, а я знаю, что ты просто хочешь показаться взрослее), Роман свернул папироску и закурил. Подержал дым во рту и выдул его в сторону, чуть приоткрыв губы, как это делают опытные курильщики.
— Так вот, идут два кума по городу,— продолжал невидимый рассказчик степенно и серьезно, будто сообщая что-то важное.— Глазеют на все, как бараны на новые ворота. Подошли к ресторану, заглянули в окна: бог мой, все пьют, едят и денег не платят!
«Вот где жизнь! Зайдем?»—сказал один кум.— «Зайдем!— сказал другой.— Хоть раз в жизни поедим досыта и задарма». Зашли. Подлетел к ним официант: «Чего прикажете?»—«Все, что есть!»— ответили кумовья. Нанес им официант всякой всячины. Пьют, едят мужики и слушают музыку. Ну, наелись, напились. Подходит официант — гони монету! Кумовья рты поразевали. Один говорит: «Так разве у вас за гроши?» А другой: «Нема у нас ничего...»
Официант понял, в чем дело, подозвал вышибалу. Тот содрал с кумов кожухи и дал им коленом под зад. Вылетели они на улицу, чешут затылки. «А я, кум, чул!»— сказал один дядька. «Чего ты чул?»—«Да то, что с нас кожухи сдерут. Слышал, как тот, что тонко играет, так и пел: «Ч-и-и-м платить будешь?.. Ч-и-и-м платить будешь?»— Это он про скрипку. «А тот, что толсто, так и бубнит: «Кожухами, кожухами!..»—Это он, значит, про контрабас...
Разноголосый хохот встряхнул землянку. Прижавшись спиной к глинистой стенке входа, Роман смеялся так, что совсем забыл про шинель, спину которой до этого старался не выпачкать. Степенно похохатывал Лошаков, глядя на папироску, по привычке зажатую в кулаке.
— Вот где веселье!— услышал Роман над головой и вскочил вслед за Лошаковым.
Командир роты, старший лейтенант Березин, улыбаясь, отмахнулся от рапорта и сказал:
— Пойдем на пристань, комбат вызывает. И ты, сержант... А ребята пусть хохочут...
Они шли по мокрому, упругому песку вдоль берега, впереди — плотный, широкоплечий Березин, старый кадровик, уже побывавший на фронте и полежавший в госпитале с простреленным бицепсом правой руки, за ним, отстав на
66
шаг,— Роман с Лошаковым. Командир роты остановился' и, когда идущие сзади поровнялись с ним, сказал:
— Хорошо бы такую погодку на ночь...— и замолчал, косясь на серую, пузырящуюся водяную равнину, по которой в предстоящую ночь поплывет его рота на тот берег Ладоги, к Ленинграду. А враг близко, эти места достает его артиллерия и в погожие дни хищно просматриваются его самолетами.
Когда людей связывает одно большое дело, они даже в молчании понимают друг друга. И недосказанную старшим лейтенантом мысль додумывали Роман с Лошаковым каждый по-своему,— при переправе все может быть... А как переправятся — фронт. И там может всякое случиться. И это «всякое»— опасности, исхода которых никогда не угадаешь.
На пристани были недолго. Моряк-командир с пистолетом на длинных ремнях рассказал, где остановится пароход, где будут лежать сходни и что при погрузке и когда поплывут, главное — порядок. Командир батальона сказал командирам рот, что грузиться будут поротно: за первой — вторая и так далее. А роты — поотделенно.
Когда возвращались, старший лейтенант признался Роману и Лошакову:
— Зверски болит раненая рука. Никогда не верил, что перед непогодой и в непогоду могут болеть кости. Теперь вот убедился.
— У меня бабка всегда, бывало, погоду предсказывала,— сказал Лошаков и, словно извиняясь, покашлял в кулак.
Старший лейтенант улыбнулся:
— В сороковом наша дивизия была на Украине. Я квартировал у одного древнего деда украинца. Так тот по поведению своей хавроньи угадывал погоду,— и не ошибался. Начинает голосить свинья, дед сообщает: быть дождю или снегу.
Роман громко рассмеялся. Ему захотелось самому рассказать что-нибудь смешное, подходящее для такой компании, но ничего интересного вспомнить он не мог, может быть, оттого, что он как-то невольно робел перед командиром роты, человеком уже немолодым и бывалым, вжившимся в солдатскую службу, как в обычную человеческую профессию. Командир роты никогда не кричал на своих подчиненных, коротко и четко отдавая приказания. Лицо у Березина было сухое, а светло-серые, почти белесые гла-
67
за - строги и холодны. Но при близком знакомстве этот офицер невольно прочно располагал к себе людей.
Роман, как и все юнцы-офицеры, втайне хотел походить на своего командира.
В обед снова ели мясные консервы с сухарями и пили чай, вскипяченный Абдуллой и заваренный им запасенным кстати смородиновым листом. Если полмесяца назад, когда были еще в тылу, солдаты жили впроголодь, то теперь в сухарях и консервах недостатка не было. Прошлой ночью на станции выгрузки их эшелон не остановился, его продвинули за реку, к лесу, разгрузили и возвратили на станцию пустым. Тут-то и пожаловало тринадцать «юнкерсов». Почти половина вагонов была разнесена в щепы и разбросана во все стороны, словно это были не тяжелые пульманы, а спичечные коробки. Вывороченные со шпалами рельсы, дико погнутые, скрученные в замысловатые фигуры, напоминали куски обыкновенной проволоки. Все это увидел Роман, придя со своим взводом за продуктами в вагон-каптерку. У вагона взрывной волной вынесло бока, и содержимое — кули с сухарями и ящики с консервами — беспорядочно валялось по обе стороны от бывшего эшелона. Ящики охранял бородатый солдат, взобравшийся на крышу уцелевшего вагона.
— Берите, сколько сможете унести!— крикнул он, когда Роман сказал, кто они и зачем пришли.
Поднимаясь на носки, Бубнов серьезно спросил солдата:
— Дядя, а дядя, ты не знаешь, куда фрицы забросили махорку?
Солдат, уразумев шутку, так же серьезно бросил:
— Это ты у них спроси, они вот-вот явятся опять. Солдат, вероятно, пошутил, но Роман поспешил увести взвод. Солдаты возвращались резво, хотя и были нагружены, по словам Бубнова, не меньше азиатских ослов.
После обеда пришел моряк с красной звездочкой на рукаве черной тужурки и передал Роману последний номер армейской газеты. Политрука в роте не было, и взводные взяли на себя его обязанности. Сводка Совинформбюро не радовала, немцы рвались к Ленинграду; и на других фронтах наши отступали. Солдаты молча выслушали Романа. Всем было ясно, что война оказалась не такой простой, как научили думать о ней; она только начиналась, и это начало было тяжелым, как сопротивление после удара из-за угла.
Дождь не перестал к ночи, и ночь наступила незаметно.
68
будто подкралась и вдруг накрыла все вокруг своей непроглядной теменью.
Построились. Роман прошел вдоль взвода, прислушиваясь к разговорам солдат. Они переговаривались тихо, спокойно, ругали дождь и бесконечную дорогу; то и дело слышалось: «Скорее бы уж до места...» Все свыклись с мыслью, что на войне всякое бывает, а поэтому и не стоит гадать, что случится.
Роман изредка поглядывал на бесконечную черноту водяной пустыни, подумывал: он-то плавать умеет, а другие? Но мысль эта появилась и тут же исчезла, словно тень от случайно набежавшей тучи.
По упруго вибрирующим, как стальные пластины, сходням Роман легко вбежал на палубу (помкомвзвода оставался замыкающим) и огляделся.
— Туда!— сказал матрос, вероятно, специально поставленный, и указал на черный квадрат спуска в трюм, взглянув на который, Роман вспомнил подпол в материнском доме, куда любил лазать в жаркие дни за холодным молоком.
На этом небольшом пароходике, как на автобусе, когда-то, вероятно, перевозили пассажиров. Внутри небольшого помещения, куда спустился Роман по крутой лесенке, стояли скамейки с изогнутыми спинками, вдоль стен свисали сетки для багажа. Здесь мог разместиться только один взвод, и Роман подумал, что другие два взвода роты, наверно, расположатся в других таких же помещениях, но мест хватило всем, и солдаты, очутившись вместе, весело балагурили, курили. Тусклый синий свет электрической лампочки навевал дремоту, и как ни боролся с ней Роман, он все-таки задремал, привалившись головой к теплому плечу Лошакова. Сержант сидел не шевелясь. Роман понимал, что спать на глазах бодрствующих солдат не надо бы, однако легко отдался пьянящей истоме, сквозь которую слышал шаги матросов на палубе, какие-то непонятные команды. Потом пароходик вздрогнул и боком начал отваливать от пристани.
Роман открыл глаза, встряхнул головой. Солдаты притихли, некоторые жались друг к другу, устраиваясь вздремнуть.
— Поспите,— сказал Лошаков,— а потом я...
— Да-да! Минут через двадцать разбудите меня,— сказал Роман, стараясь придать своему голосу больше бодрости, и тут же по-детски быстро опять отдался сну.
69
Ему показалось, что он не спал и минуты, когда его разбудил сильный грохот. Вскочив, он удивленно взглянул на потолок, за которым глухо отстукивал длинные очереди пулемет и скороговоркой ахала легкая автоматическая пушка. Пароходик накренился, и солдаты, налетая друг на друга, побежали в сторону крена.
— Тонем!— крикнул кто-то страшно, по-бабьи визгливо.
— Молчать!—почему-то обозленный этим криком, во весь голос приказал Роман и, вцепившись в сетку полки над головой, удержался на месте.
— Без паники по одному — наверх!— громко, но спокойно крикнули в открытый трюм.
Роман выскочил на палубу последним. И на мгновение остановился, ослепленный необычайно ярким светом. Он лился сверху, словно пылало само небо. Роман вскинул голову и увидел, как четыре больших солнечно-ярких шара чуть заметно покачивались над пароходиком. «Ракеты!»— догадался он и огляделся. Только теперь он понял, что случилось: носа у пароходика не было, его как будто срубили огромным топором. И из невидимой пробоины, будто кровь, выбрасывались все выше и выше горячие всполохи огня. Пароходик стоял на месте и кренился в сторону обрубленного носа.
За борт, в холодно поблескивающую воду, спускали шлюпки, бросали какие-то большие деревянные ящики и спасательные круги.
Как теперь хотелось Роману, чтобы командир роты был рядом! Но даже голоса его не было слышно.
Низко, скрываясь за своими «висячими» ракетами, кружился вражеский самолет, поливая мишень пулеметным огнем. По нему с пароходика били из зенитной пушки и пулемета, но безрезультатно: он был невидим, как жужжащая муха в темной комнате.
Неумеющих плавать спускали в шлюпки, кто умел — сам бросался за борт.
— Спокойно!.. Не толпиться и не кричать!—говорил Роман тем, кто ждал очереди на шлюпку.
Весельчак Бубнов разделся до кальсон и со словами: «Эх, мама, моя мама!»— бросился головой вниз в тревожно покачивающуюся воду.
Связной Абдулла топтался около Романа, держа в, руках туго набитый вещмешок, и беспомощно моргал круглыми запавшими глазками. Роман взял у него мешок,
70
швырнул за борт и толкнул его самого к матросу, командовавшему посадкой в шлюпку.
— Пустите старика!..
«А ведь он и в самом деле старик»,— как-то невольно подумал Роман, удивившись тому, как сразу осунулось и состарилось лицо этого человека.
Стонали и звали на помощь раненые. Сержант Лошаков со спасательным кругом под мышкой метался по палубе, отыскивая растерявшихся.
Пароходик пустел и быстро погружался. Огонь и вода, борясь друг с другом, упорно топили его. На нем осталась только его малочисленная команда, а за бортом разоренным муравейником кишели те, кто покинул его. Роман ничем не мог помочь своим солдатам, как и командиры двух других взводов. И ему пришлось только следить за порядком, подчиняясь матросам. Он поглядел за борт: ни одной свободной доски, ни одного спасательного круга. И не пожалел об этом, только подумал: «Где же командир роты?»
— Эй, пехота!—закричал в рупор с борта матрос в порванной тельняшке и с растрепанными волосами.— Держись, скоро помощь подойдет.
Роман быстро снял верхнюю одежду, сделал несколько резких движений руками, чтобы согреться, и прыгнул за борт. Холодная вода на мгновение парализовала его. Почти инстинктивно он вырвался наверх, огляделся и сильными бросками поплыл от парохода к людям — к своим солдатам. Послышался рев моторов пикирующего самолета. Роман опять нырнул и постарался пробыть под водой как можно дольше. Вынырнул и не увидел и тех, кто был в ближайшей шлюпке, и самую шлюпку, зато на волнах колыхалось много свободных досок.
Погасла одна ракета, вторая, но две других продолжали светить, и самолет снова заходил на цель, и по нему, невидимому, одинокий смельчак с тонущего пароходика бил из пулемета.
Несколько раз Роману приходилось укрываться от смерти под водой, и когда ему казалось, что этому медленному отупению от холода не будет конца, вдруг как-то все кончилось: не стало яркого голубоватого света ракет, шлюпок, пароходика. Остались только черная вода, такая же беспредельно черная холодная ночь и крики о помощи. Стуча от холода зубами, он поплыл на эти зовущие крики. И ругал пострадавших такими словами, которых раньше даже
71
не хранил в памяти. Кричал людской страх, и его можно было остановить только угрожающим окриком или до жестокости решительным действием.
Роман наткнулся на шлюпку, загруженную так, что, возьмись он за борт рукой, она пошла бы ко дну. Чувствуя настороженные взгляды солдат, Роман говорил деланно весело, борясь с дрожью:
— Не унывать, друзья! Ко всему надо привыкать, — и плыл дальше, тупея от обжигающего холода.
«В такой воде долго не продержишься, окоченеешь»,— подумал он, бросая тело сильными толчками рук и ног вперед, в надежде встретить то, что поможет хоть немного обогреться, отдохнуть. Он почти стукнулся головой о вторую шлюпку, тоже перегруженную. Но не сказал обычных ободряющих слов. В шлюпке кто-то жалобно просил:
— Воды, горит все...
— Куда?— спросил Роман.
И из шлюпки тихо, безголосо ответили:
— В живот.
— Пить много не давайте. Мочите голову и губы, — посоветовал Роман и бросил солдатам вдруг радостью набежавшее решение:
— Держитесь, а я к берегу поплыву... За помощью!.. Роман не знал, в какую сторону плыть и сумеет ли он
доплыть до берега, к своим, но мысль, что люди будут ждать его и надеяться на помощь, влекла его вперед. Сразу как-то притупилось чувство холода и усталости. Он поднял голову над водой и прислушался. Там, в непроглядной и бесконечной тьме, будто били деревянными молотами в днища пустых бочек — это стреляли пушки. Но чьи? И Роман уверенно решил — наши. И поплыл к этим далеким, теперь уже не пугающим звукам.
В критические или просто тяжелые минуты жизни человек почему-то вспоминает все дороги, по которым ему раньше пришлось пройти.
Горечью отозвалось в душе Романа рассказанное матерью перед его отъездом. Старик Ветров. Нет, он еще не старик. Такие люди старятся медленно, вероятно, потому, что умеют приспосабливаться к жизни всегда и везде... Конечно, он убил его отца, но попробуй докажи, что сделал это он... И Нина рядом с ним, этим непонятно чем живущим человеком... И почему он думает о ней в этой бескрайней ледяной воде? Может быть, о
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- otetz
-

- Посетитель
-

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
А насчёт красные хотели нахаляву, не согласен. Вот например, если недород, то нужно впроголодь сидеть, но зерно на семена сохранить. Хозяин это понимает, но голодные дети нет, плачут и есть хотят. Это зеркальное отоброжение продразвёрстки. Т.е. у государства не было средств покупать зерно и кормить рабочих, без которых нет заводов, и далее нет промышленности, нет страны и как следствие нет тех же крестьян. Но объяснит это так, чтобы они поняли, при том, что ведётся агитация против власти...
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
otetz пишет: А что касается темы "белые-красные", то я думаю, что здесь не всё так однозначно... Там все были "хороши", как от одних так и от других страдали обычные люди, крестьяне, потомками которых является большинство из нас.
В подтверждение вышесказанного, могу предложить всем интересующимся прочесть о крестьянском восстании 1921 года, перейдя по даной ссылке: www.petropavl.kz/module/mg106_2.shtml
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Фёдорыч
-

- Посетитель
-

Пытаюсь вот по крохам "накопать" материала. Прими и от меня "презент" (если ещё сам не нашёл) kz.ethnology.ru/win/gorod.html
Здесь найдёшь работу Красовского, царского офицера, от 1863 года. В части 2-й кратко написано об образовании наших станиц. Интересный материал должен быть в первой части, но её авторы проекта почему-то не размещают (просил их об этом неоднократно)... Что-то найду ещё - обязательно поделюсь... Удачи
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.


